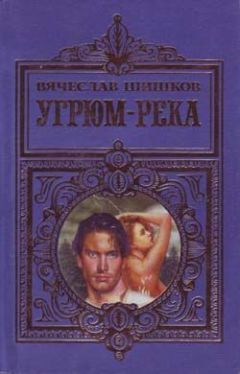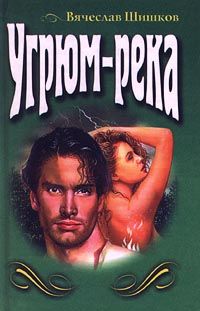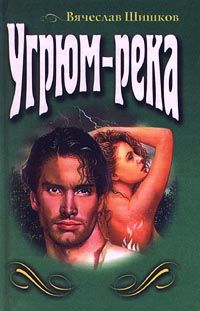– Нет, ты, язви тебя, отчаянная. А как я, по силе возможности, учну целовать тебя да приголубливать?
Цыганка громко, резко всхохотала и пересела подальше от бродяги.
– Мы, вольные цыганки, к этому очень даже привычные... Только дорого берем... Золотишка-то много у тебя?
– Хватит... Вот иди ко мне в жены... Ты, язва, мягкая, пригожая... А я, можно сказать, богач... Бороду долой, добрую сряду заведу, дамочка-цыганочка... Иэх ты, язва! Стрель тя в пятку... Патока!
Цыганка передернула плечами, засмеялась, вынула колоду карт, раскинула зыбучим веером по мохнатому ковру, сказала:
– Эк, карты соловецкие, мысли молодецкие! Вот какая карта ляжет, так и быть... Эх, и зацелую тебя, счастливый, умом от счастья тронешься, весь свет забудешь! Эх, красивые твои глаза, заграничные!.. На, гляди!..
Ноздри бродяги раздувались. Кровь заходила в нем, глаза блестели.
– А ежели песни... Можешь петь?
– Могу. А ты?
– Когда выпивши, ору и я.
– А хочешь выпить?
– Дура... Колдовка, что ли, ты?.. Где взять?
– А вот...
Цыганка достала из-под шали припечатанную сотку коньяку и подала бродяге.
Тот скусил печать, шлепнул посудой по ладошке, отмерил ногтем половину:
– Будь здорова, милашечка моя, – отпил и подал остальное ей. – Кушай во славу, ангел... Окати душеньку цыганскую... Кха!
– Нет, я не впотребляю... Кушайте до самого денышка. А как выкушаете, костер разведем, целоваться станем... И вся-то ноченька, до зари до зорюшки, будет наша... Пей, счастливый, заграничные твои глаза... Вот и карта – глянь, глянь-ка, – на крестовую даму король прилег!
Бродяга, влив в рот, долго не глотал коньяк: ох, и жжет, ох, и тешит душу!
– Кха! Спасибо...
Он уставился взглядом в карты: верно – король и дама в обнимку прохлаждаются. Прочие же карты то встанут, то прилягут, то встанут, то прилягут.
– Колдовство какое, – бродяга протер глаза и по-сердитому глянул на цыганку.
– Что ж ты на меня глазыньки свои пялишь? – шумнула цыганка резким голосом. – Нешто не узнал?.. Это я – вольная цыганка, прихехеничка твоя, зазноба...
– Сгинь! Чур нас... Чур! – промямлил бродяга, едва ворочая пудовым языком... Он сидел в наклон, как большая пучеглазая жаба, уперев кулаками в мох. Седовласый моховой ковер раскачивался все шибче. Бродяга повалился на бок – сердцу приятно, сон долит.
– Глазыньки твои помутились, головушка на подушечку легла... Спи, счастливый, спи...
Она приникла к лицу бродяги, торопливыми пальцами его веко приподняла, воззрилась в закатившийся под лоб мутный глаз, встала, выхватила из-под шали пистолет и в воздух – раз!
– Грр-ро-о-о-ом... – прошептал бродяга.
На выстрел кто-то к цыганке подошел.
Прохор перекрестил дочь Верочку, поцеловал жену и, пожелав покойной ночи, ушел к себе в кабинет. Лег, закрылся простыней. Душно, не спалось. Толпой проплывали в мыслях призраки минувшего. Лица, встречи, положения. Но трудно ухватиться, задержать: много их. Вились и проносились дальше, как в непогодь снежинки. «Тунгусы пришли», – вспомнил Прохор. И тут промелькнула в расслабленном его сознанье та далекая, далекая маленькая Джагда. Где-то она? Наверно, время не пощадило и ее: поблекла, увяла, как надломленный цвет в степи. Он вспомнил ту тихую ночь, всю поглощенную туманом, вспомнил свою хибарку, челн, тайгу, вспомнил и то, как жадным зверем гнался он за Джагдой. Хибарки давно нет – сожгла гроза, но ведь она когда-то стояла здесь, вот на этом самом месте, в нее приходила тогда маленькая обиженная Джагда. Прохор помнит, как сквозь крепкий сон услышал ее скорбный, перевернувший его сердце голос: «Прощай, бойе! Прощай!» Тогда мгновенно он открыл глаза, хотел схватить ее, чтоб нежно целовать и никогда не разлучаться с ней. Но Джагда легкой птицей порхнула чрез окно в туман и навсегда погибла для него в тумане сладостных воспоминаний.
Да. Все минуло, прошло, как тень от облака. «Ну, что ж... – неопределенно подумал Прохор и вздохнул. – Тунгусы пришли... Пойду». И он на цыпочках вышел.
Ночь была вся в лунном серебре. Роса ложилась. Фосфорическим отблеском светился церковный крест. Белая хатка отца Александра голубела, сквозь голубые стекла красный, в лампадке, огонек мигал. Для человеческого уха – густая тишина. Но все незримо гудело: потоки лунных струй, рассекая надземные просторы, ниспадали на сонный мир тайги, колыхались и звенели. Погруженная в дрему тайга отвечала им шорохом– шелестом, бредом мимолетных, терпких, как ладан, сновидений: тайга благоухала.
Прохор мечтательно вдыхал этот одуряющий аромат лесов и чувствовал, как скованная житейскими условностями воля его освобождалась. Лунные потоки стрел пронзали его нервы, взбадривали кровь. И уже все ликовало в нем, влекло его в хмельную какую-то гульбу. Эта серебряная ночь обсасывала человеческое сердце, как змея. Грустно стало человеку, одиноко.
– Джагда! – разорвал он струи лунных ливней.
Но милый голос не прозвучал в ответ. А вот и стойбище. По мшистым зарослям пасутся поголубевшие олени. Вот кучка их сытно лежит, костистые кусты рогов недвижны. Пять остроконечных чумов из ровдужины[6], тунгусы в глубоком сне. Лишь одна не спит – высокая, стройная тунгуска. Она в раздумье остановилась у огромного костра, смотрит на игривую пляску пламени, тужится понять – какую сказку говорит огонь, а может, и сама выдумывает песню о морозном солнце, о милом, о луне. Вот она, луна! А где же милый?
– Здравствуй, – тронул ее Прохор за оголенное плечо,
Тунгуска пружиной отпрыгнула в сторону.
– Ай! Ну! Зачем пугаешь?
Залаяли, кинулись к костру кудлатые собаки.
– Геть! – Она ударила жердиной одну, другую и подняла на Прохора черные, под крутыми тонкими бровями, глаза свои. В них испуг и любопытство.
– Чего ж ты испугалась?
– Тебя... Думала – шайтан. – Она держала в зубах трубку, смуглые скуластые щеки ее рдели здоровым румянцем. Она молода, гибка, голос ее плавен. – Ты большой. Ты можешь медведя заломить... Я тебя боюсь. Сейчас разбужу наших, – вслух думала она, разглядывая Прохора.
– Не надо, не буди, – сказал Прохор, любуясь ею. – Ты очень красивая. Как тебя звать? – И Прохор сел к ее ногам, обутым в шитые разноцветным бисером сапожки.
– Меня звать – Джульбо.
– Хорошее имя. А нет ли среди вас Джагды?
– Джагды? – Тунгуска вынула из зубов трубку, отерла слюни на губах и сокрушенно присвистнула. – Джагда померла. Давно померла Джагда. Стала родить русского ребенка, не могла разродиться, померла.
Она говорила по-тунгусски, глядя в сторону, в мрак тайги, и прерывала свои слова вздохами.
– Поколел твой Джагда, сдох давно, – пояснила она исковерканным русским языком, и глаза ее наполнились слезами.
У Прохора защемило сердце. Он с минуту молчал, борясь с гнетущим его чувством... Так вот какова судьба этой маленькой несчастной Джагды! Эх, не надо бы ему приходить сюда.
Тунгуска оправила костер и села против Прохора.
– Джагда моего отца дочь... Только от другой матери. А мой муж пропал.
– Как пропал?
– Так, пропал и пропал. Вот одна теперь.
– Скушно?
– Как не скушно... Видишь – все спят, а я маюсь. Сладко ли?.. Мне только двадцать зим. А денег у меня много: я хорошо белку, зверя промышляю. Богатая, а скушно. Шибко скушно!
– Не скучай!.. Вот сладкая наливка у меня. Вот конфеты.
Прохор достал походную флягу, бросил горсть конфет и, все еще во власти мрачных дум, по-холодному обнял тунгуску. Та вздрогнула всем телом, чуть поборолась с ним и приникла к нему вплотную.
– Пойдем подальше от костра, – сказал Прохор, вяло целуя ее губы.
Луна низринула на них потоки метких стрел и улыбнулась.
Лай волка разбудил весь дом. Всполошились собаки на дворе. В ворота стучал Филька Шкворень, переругивался с сонным дворником. Дворник говорил ему, что Прохор Петрович почивает и пусть бродяга убирается ко всем чертям. Филька Шкворень всхлипнул за калиткой.
– Понимаешь, обида вышла. Обобрали меня всего... Золото отняли.
Нина боялась тревожить мужа. Но неужели он так крепко спит? Она открыла окно и прислушалась к разговору. Дворник сказал:
– С такой обидой надо к приставу идти либо к уряднику. А к хозяину приходи часов в шесть утра либо к вечеру – на башню.
Бродяга молчал. Он сел на луговину у калитки и схватился за голову.
Время было раннее. Утренняя звезда еще не слиняла. В низинах лежал туман. Дворник ушел в караулку.
Не прошло и часу, как послышались шаги Прохора и кашель его. За плечами ружье, сапоги взмокли от росы. Волк залился в кабинете радостным воем. Прохор взглянул на спящего бродягу, отпер тихо калитку и тихо стал пробираться в дом. Занавеска в спальне Нины отдернулась и резко запахнулась.
Утром, когда Прохор садился в таратайку, к нему приблизился Филька Шкворень. Захлебываясь и утирая кулаком глаза, он рассказал Прохору о своем несчастье.
Прохор кинул ему:
– Дурак! – и уехал.
В одиннадцать часов Нина стала собираться к тунгусам. Она возьмет с собой и свою дочку Верочку. За ними зайдет отец Александр.