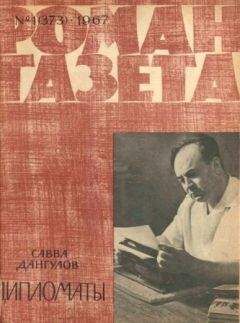Петр вернулся в зал, из полутьмы дипломатической ложи сверкали глаза германского посла. И вновь Петру пришли на ум слова Мирбаха: «На Рейне горят леса…»
Под сводами театра снова загудело:
— Долой Мирбаха!
На трибуну поднялся Ленин, и зал встал: одни, охваченные воодушевлением, другие — заманчивой возможностью прямо, с лету, с маху кинуть, как камнем, поднятым с земли злым словом.
— Россия не простит брестского позора!
— Неверно! Россия все поймет — мы дали ей мир.
— Мир миру рознь! Не убережетесь — на вас идет вал ненависти. Он поглотит вас вместе с вашим Мирбахом.
— Возьмите его и Камкова в придачу! Пугали пуганых!
— Долой Брест!..
Петр смотрел на Ленина. Казалось, за всю его жизнь, страдную и диковинно грозовую, не было поры более трудной, чем эта. Вот он вышел навстречу врагу, чтобы глазами, грудью, лицом, всем тем, что было его именем и его сутью, защитить веру и правду свою.
— Долой Брест! — устремила тонкие руки к небу Мария Спиридонова и зашлась в беззвучном кашле. — Долой… позор России! — продолжала она кричать, охватив грудь, сизая от наступившего удушья. — Долой!..
А Ленин продолжал говорить. Он говорил, что Брест в нынешнюю суровую пору отвечает интересам революционной России я отказаться от брестских обязательств — значит пойти на открытый конфликт с Германией. Это выгодно всем, кроме России. Очевидно, задача заключается в том, чтобы набраться терпения и ждать.
— К какому терпению вы призываете? — поднялась со своего места Мария Спиридонова. — Сохранить терпение — значит умереть с голоду.
— С голоду умереть…
— С голоду!..
Ленин наклонился, произнес:
— Да поймите же…
Петру казалось, что радостная ясность, которую он увидел на лице Ленина сегодня утром, исчезла и выступила усталость, все беды нынешнего нелегкого дня.
Петру позвонили от Клавдиевых и сообщили, что Федор Павлович почувствовал себя лучше и хотел бы завтра нанести визит старому дубу на Сретенке. Клавдиев просил Петра быть с ним. Петр подумал, что поездка на Сретенку даст возможность видеть Клавдиева и Киру и многое объяснит. Он сказал, что будет поутру.
На другой день Петр взял извозчика и поехал на Воздвиженку. Было десять утра, но солнце уже палило немилосердно, и извозчик по просьбе Петра поднял верх.
Петр поместил Клавдиева под верхом, а сам с Кирой сел на узкое и не очень удобное сиденье напротив. Под верхом было полутемно и, наверное, прохладно. Петр видел, с какой жалкой пристальностью Клавдиев смотрит вокруг — будто любопытство к тому, как выглядит город, разбудило прежнюю силу в глазах и они сейчас видели так, как давно уже не видели.
Притихла и Кира.
Вот чудо, в сравнение с которым не идут никакие чудеса земли и неба: кажется, легче перенестись на другую планету, чем раскрыть тайну человека, тепло и дыхание которого чуть ли не слились с твоим.
Извозчик остановился у подъезда дома с колоннами. Дом, как показалось Петру, был меньше и неказистее, чем тогда на дагерротипе.
— Дуб жив, жив дуб! — закричала Кира и, не обращая внимания на спутников, понеслась во двор.
Петр подал руку Клавдиеву. Тот все еще был молчалив.
— Не думал, что доживу до этой минуты, Петр Дорофеевич, — тихо проговорил он.
«Перед этой встречей даже Клавдиев безоружен» — сказал себе Белодед. Не он, Петр, а вот этот дуб, стоящий посреди двора, заставил Клавдиева произнести то, что не произнес бы он ни при каких обстоятельствах прежде.
А Клавдиев стоял перед дубом, не в силах обнять взглядом и крону, и черную колонну ствола.
— Он, как зачинатель рода, праотец, чудом выживший.
Клавдиев положил ладонь на ствол дуба, а Петру представилось, что рука, темная, в бугристых и вздувшихся венах, вросла в кору старого дерева.
Клавдиев был взволнован, а Кира… в ее взгляде, обращенном на деда, Петр увидел и недоумение и укор. Здесь между ними лег ров.
В доме где-то наверху, чуть ли не на уровне маковки дуба, раздался удар топора. Потом еще и еще. Казалось, рубят не дрова, а старое клавдиевское гнездо.
Клавдиев поднялся на крыльцо, сделал усилие открыть дверь — она поддалась. Кира и Петр следовали за ним. Наверно, человек, орудующим топором, услышал шаги на лестнице, удары топора утратили силу.
— Кто там? — вдруг раздался голос, неожиданно тихий, и Петр увидел над собой великана с повязанным горлом, в руках у него был колун. — Я спрашиваю: кто? — повторил великан.
Сейчас человек с колуном стоял над Клавдиевым.
— Этот дом принадлежал… моему отцу, — сказал Федор Павлович. — Я приехал из Англии.
— Вы Клавдиев?
— Да.
Великан с повязанным горлом опешил, он смотрел на Клавдиева и точно соизмерял с тем, каким он представлял его себе прежде.
— Гусаров Глеб Глебыч, — отрекомендовался великан и взглянул на колун — сейчас колун лежал у его ног. — Ну, и как вы нашли Москву? — спросил Гусаров.
— Я еще многого не видел, — произнес Клавдиев.
Гусаров засмеялся — смех, отраженный в просторных окнах веранды, казался стеклянным.
— Разве это смешно?
— Смешно.
— Простите, почему?
— Смотри не смотри — все ясно.
— Что именно?
— Я готов голодать, — заметил Гусаров и вздохнул, да так шумно, что дверь за спиной скрипнула и отворилась. — Я готов жить без хлеба… но оставьте мне хотя бы свободу! Нельзя у человека отнять и хлеб и свободу — он распадется, превратится в пыль.
— А разве вы менее свободны, чем прежде? — спросил Клавдиев.
— Менее! Конечно, менее, хотя внешне я свободен. — Он взял с пола колун, повертел его и положил обратно. — Я солдат армии труда. В пределах этой армии я свободен абсолютно. Я брошен в поток, и меня несет вместе со всеми к великой цели, но до нее, как до дальней планеты, триста тысяч лет свободного падения!
— Простите, а… ваш идеал?
— Мой идеал? Хоть на четвереньках, но выкарабкаться из потока и остаться человеком, чтобы тебя не истерло до блеска, чтобы на лице остались рот, нос и глаза… чтобы лицо не стало похожим на коленку в конце концов! Хочу делать то, что делают все люди: гневаться, ненавидеть, сомневаться… хочу сомневаться, черт возьми! Хочу обнаружить то, что мне дано от бога! Хочу дать волю страстям, которые, наверно, есть у меня, как есть у вас. Хочу быть богатым!
— Но богатство — не свобода, угнетение, — сказал Клавдиев.
Гусаров покраснел.
— Тогда не хочу быть богатым, — нашелся он мгновенно и, взглянув на Петра, помрачнел. — Я заметил, вы все время скептически улыбаетесь. Вы хотите что-то сказать?
Петр рассмеялся.
— А мне все-таки кажется, что вы хотите быть богатым.
— Я хочу быть свободным, а нет богатства больше.
— Верно, — сказал Клавдиев. — Нет богатства больше. Верно, — подтвердил он и пошел к выходу.
Уже очутившись во дворе, они вдруг услышали, как распахнулось над ними окно — там стоял Гусаров.
— Все великие революции были в июле! — крикнул он и исчез.
— Что он сказал? — спросил Клавдиев.
— Он сказал, что все великие революции были в июле — ответил Петр, смеясь.
— Так и сказал?
— Так.
Клавдиев взглянул на окно, прислушался, надеясь, что великан с топором произнесет нечто подобное еще раз, но лишь неистово и зло застучал топор — Гусаров колол дрова.
Воровский остановил Петра и не столько кивком головы, сколько движением глаз дал понять, что намерен сообщить нечто чрезвычайное.
— Товарищ Белодед, — Воровский коснулся руки Петра ладонью — она была холодна, — только что убит Мирбах… Да, разумеется, эсерами, Ленин просил разыскать вас.
Как обычно в эти дни. Кремль люден, тем чутче тишина в приемной председателя Совнаркома.
Ленин сидел у края стола и быстро нумеровал записи, которые Петр увидел в руках Владимира Ильича сегодня утром, когда тот был на трибуне. Ленин оглянулся на голос Петра, и Белодед только сейчас понял, насколько серьезно все, что произошло.
— Белодед? — произнес он быстро, видимо удерживая в памяти номер помеченной, но уже перевернутой страницы. — Свердлов и я едем в германское посольство, да, с соболезнованием. — Он пометил лежащую перед собой страницу. — Вы будете с нами. — Его рука обрела прежнюю стремительность — одна за другой нумеровались страницы. — Что же вы молчите? — Он закончил нумерацию, собрал листы в стопку и, поставив вертикально, дважды ударил ими о стол. — И вы считаете, что этого делать не стоит?
— Я ничего не сказал, Владимир Ильич, — ответил Петр.
— То-то же, — Ленин пошел к выходу. Навстречу Ленину шагнул человек в вельветовой блузе.
— Простите, — обратился он к Владимиру Ильичу, — мог бы я задержать вас на минутку?