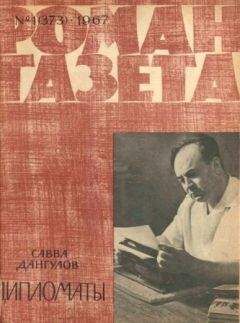Было лето восемнадцатого года.
Петр доехал паровичком до дачного полустанка и пошел опушкой леса. Солнце уже давно село, но небо было нетускнеющим, и белесые полуночные сумерки разлились над полем и лесом. Земля давно остыла от полуденного зноя, и лес дышал холодной свежестью, а повсюду в стороне, отступя от дороги и леса, где днем поблескивали озерца и болотца, поде было мягким, серо-пепельным.
Еще дача была далеко, когда на белой тропе, огибающей лесок, он вдруг увидел светлое платье Киры. Быть может, она выходила к поезду и, не дождавшись, возвращалась обратно. Он шел вслед, думал: «Все, что надо сказать, скажу сейчас». Они будут идти по тропке, касаясь друг друга плечами — тропа неширока, и он спросит…
— Кира! — крикнул он негромко, точно боясь вспугнуть легкую тишину ночи. Она оглянулась и, не увидев Петра, пошла быстрее. Петр улыбнулся. Ну конечно же, она идет сейчас и думает, что голос ей померещился. Он сошел с тропы — трава скрадывала шаг.
— Кира!
Она обернулась и пошла навстречу усталым и храбрым шагом.
— Ты звал меня сейчас? — спросила она и припала щекой к его груди.
Он кивнул и, сняв пиджак, набросил ей на плечи — все казалось, что она мерзнет.
— Мне не холодно, — сказала она и благодарно посмотрела на него.
— Ты работала сегодня?
— Да, только утром, — сказала она.
День у нее расписан точно — четыре часа при утреннем солнце, четыре — при послеобеденном и вечернем. Она была тверда, когда речь шла о рабочих часах. Тогда почему в послеобеденные часы, которые Кира особенно ценила, она не работала?
— Тебе неможется?
— Нет…
— Пришло письмо?
— Да… от мамы.
— Оно пришло в полдень?
— Да, а ты откуда знаешь?
Он сжал ее плечи, зарыл лицо в ее волосы. Они пахли влажной землей и едва уловимым дыханием трав — видно, она долго бродила по холодным вечерним полям.
— Знаю. Оно пришло, и тебе стало худо. Так?
Кира не ответила, только упрямо и ласково ткнулась в грудь.
— Она не хочет ехать в Россию, так ведь?
Кира и в этот раз не разомкнула губ, только беспомощно замотала головой и вновь припала к груди, точно умоляя спрятать ее как можно надежнее,
— Не хочет, Кира… да?
Она притихла и вздохнула.
Они повернули и пошли через поле, пошли без дороги. Поле было молочно-зеленым от росы, и там, где они ступали, оставался темный след. Ноги стали влажными, и туман обнял их, но они не чувствовали ни холода, ни влаги. Где-то вдали невысокой и призрачной черточкой темнел лес. «Вот дойдем до этого леса, — думал Петр, — и я спрошу ее, обязательно спрошу». Но лес поднимался над холмистым полем и исчезал, а расстояние до него не уменьшалось. Петр отчаялся и решился.
— Погоди, — сжал он ее плечи. — Но если она не приедет сюда, как тогда ты?
Она высвободила руку и сбросила с плеч пиджак.
— Не знаю…
Где-то в сосновом лесочке, сухом и неожиданно теплом, они остановились. Он припал спиной к стволу. Что-то тревожное, непоправимо смятенное промелькнуло в этот вечер, все грозившее опрокинуть, все разметать. Это чувствовал он, и это безошибочно ощутила она. Выть может, поэтому с такой силой они потянулись друг к другу. Она старалась приникнуть к нему, и ей все казалось, что он далеко, что ей не дотянуться до его дыхания и тепла.
Они вошли в березовую рощу, здесь заметно посветлело. Он даже подумал: до того как осветить землю, зоревое солнце пришло сюда.
— Но если она не приедет, как ты все-таки?
Она долго не отвечала.
— Ты не видишь разве, как мне трудно?
— А… Клавдиев?
Она поднесла кончики пальцев ко рту.
— У меня с ним разладилось.
— Что так?
— Не знаю.
Она никогда так не говорила о нем. Если и был кто-то дружен в их семье, то это Клавдиев и Кира.
Они добрались до решетчатой ограды дачи
— Мы зайдем, да?
Он помедлил.
— Сейчас уже поздно. В следующий раз я приеду раньше.
— Ну зайди ненадолго, — сказала она, слабо противясь; он уловил это.
— Нет, — сказал Петр и протянул руку.
Он слышал, как она идет через сад и отводит ветви. Нет, она не отшатнулась от Петра, но что-то встало между ними сегодня. Мать? Может, и мать, но если бы не было ее, тогда как? И он вспомнил недавнюю встречу в Москве. Она только что вернулась с дачи, и первые этюды лежали перед ней, среди них большой этюд — ели, освещенные солнцем. Петру он показался необыкновенным. Солнце и ели в солнечной тиши. И каждый ствол, каждая ветвь, не потревоженные ветром, точно застыли в неслышной музыке света. Да, именно музыка елей и солнца. Наверно, это настроение в природе бывает не часто. Оно было и тогда один миг. Кира его подсмотрела.
— По-моему, вот это… стоящее, — не мог он скрыть.
— Стоящее? Верно, или тебе так показалось?
Уже потом он все старался додуматься: почему она, вместо того чтобы обрадоваться этим его словам, неожиданно опечалилась? Не верила в искренность этих слов и старалась понять их подлинное значение? Или, наоборот, очень верила в то, что они были произнесены от сердца, и поэтому затужила? В конце концов она верила, что способна воспринять и глазом и сердцем только свечение медовых холмов и росную мягкость луговой Англии, только их. И, может, этим объясняла то, что неласковую чужбину предпочла родным полям и долам. А тут вдруг… эти ели и солнце!
Петр решил быть у Киры завтра же, вернее, сегодня (день уже наступал, солнце было еще за линией горизонта, и поля лежали, освещенные рассветным сумраком, без теней), но сегодня открывался съезд Советов. Долгожданный съезд, а следовательно, и очередная крепкая стычка с летучей армией Марии Спиридоновой. О чем спор? Разумеется, о мужике, хлебе и, конечно же, Бресте — через четыре месяца после подписания мира спор вокруг Бреста не утратил остроты.
Белодед вспомнил Воровского. Накануне Петр встретил его в Наркоминделе. Встретил и почувствовал: тревожным ветром потянуло, предгрозовым. Воровский знает, когда ему быть в Москве. «Как вы думаете. Белодед, левые эсеры покажут нам… кузькину мать?!» Петр рассмеялся: «Могут и показать, Вацлав Вацлавыч». Воровский закашлялся. «Я знаю, вы сторонник крайних мер». — «Похоже ли его на меня, Вацлав Вацлавыч?» — спросил Петр, однако подумал: «Он говорит сейчас о Королеве. Надо разрубить этот узел. Улучить момент и разрубить — все выяснить, все договорить до конца».
Петр подходил к станции. Он оглядел небо. Оно было незамутненно-чистым и безветренным, видно, день предстоял знойный — с одного берега не видно другого. Как-то удастся переплыть эту воду, не замутит ли ее сегодня, не вздыбит?
Петр вышел из Наркоминдела, когда до открытия съезда оставалось минут пятнадцать (Чичерин осуществил свое намерение — Наркоминдел покинул особняк и переехал в «Метрополь»). Белодед пересек Лубянский проезд и впереди, у Малого театра, увидел Воровского. Тот стоял у кромки тротуара, развернув перед собой широкий лист «Известий». Вацлав Вацлавович был хмур. Нервно поблескивали стекла пенсне.
— Происходит нечто странное, — произнес Воровский, увидев Петра. — Только что прошла здесь Мария Спиридонова, окруженная своей гвардией, при этом все были вооружены. — Он поправил пенсне. — Все решительно.
Петр улыбнулся.
— Старая привычка, Вацлав Вацлавыч, читать улицу?
— Да, читать и прочитывать. — Он указал взглядом на тротуар, лежащий вдоль широкой стены Большого театра.
Воровский сложил газету, и они перешли дорогу.
По тротуару к входу в театр шел Ленин и его младшая сестра Мария. Ленин шел быстро, сильным, вразмах, шагом, делавшим фигуру больше обычного коренастой, и Марии Ильиничне стоило немалого труда идти вровень. На Владимире Ильиче был темный костюм и светлая кепка с широким козырьком — видно, кепка была новой. На Марии Ильиничне — длинная, чуть расклешенная юбка и белая, совсем летняя блуза.
— Вы обратили внимание, они сегодня очень молоды, — произнес Воровский, когда Ленин с сестрой скрылись из виду.
— И праздничны, — сказал Петр, улыбаясь. — Особенно Мария Ильинична.
— Не только она, — бросил Воровский. повеселев. — У Ильича кепка хороша… ох, хороша кепка!
Ленин решительно исправил Воровскому настроение.
К главному входу в театр медленно подкатил лимузин, большой, траурно-черный. Из автомобиля выскочил шофер, точно его выкинуло тугой пружиной. Ему было нелегко обогнуть лимузин и приблизиться к задней дверце — народ валил валом. Пока шофер пробивался к дверце, человек, сидящий за нею, являл завидное терпение. Шофер дотянулся до полированной ручки, и посол медленно выбрался наружу. Он шел по лестнице, и толпа расступалась перед ним. Он близоруко смотрел вокруг и пробовал улыбаться, но толпа оставалась враждебно-суровой.