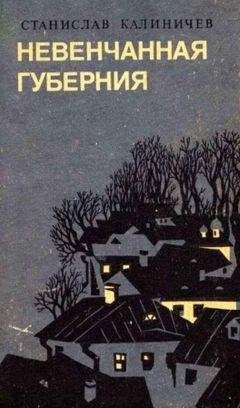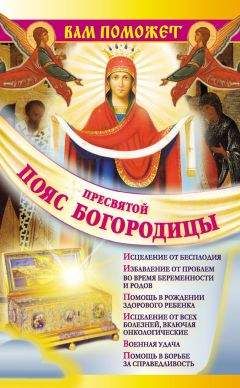— Проходи в дом.
Подхватил чемодан и взбежал на порожек. Увидел поваленные вёдра и про себя отметил: «С пустыми встретила». Дина вошла следом за ним в дом, лязгнула засовом, запирая дверь. Оказавшись посреди гостиной, пытался придумать что-нибудь подобающее случаю. Как-то заморожено она развязала платок, бросила на спинку стула… и с утробным стоном: «Поль!» — упала ему на грудь. Она плакала, её словно прорвало, с ожесточением говорила, что ждала этого часа, знала: он придёт. Он придёт, когда будет плохо, когда будет трудно, когда все от него отвернутся и некуда станет ему идти. Но первоначальное ожесточение всё размывалось и размывалось слезами, она уже не выговаривала ему, а жаловалась, всхлипывала, сладко стонала…
Опомнился Клевецкий уже в постели, когда она лежала обессиленная, затихшая и готова была слушать что угодно, любую чушь. Он стал плести ей про какую-то чудовищную клевету — его оговорили, преследуют, он вынужден скрываться и больше всего не хочет, чтобы о его появлении знал Степан Савельевич. Она успокоила: отец и мать поехали в Рутченково. Бабушка Надя собралась помирать.
Поддавшись её напору, он забылся, а теперь приходил в себя, и в душу снова заползал страх. Чувствовал, что не уходит от погони, а лишь ещё больше запутывается.
— Я хочу договориться с Тимохой, чтобы пожить день-другой у него. Так безопаснее.
Она не возражала.
— Чемодан пока оставлю у тебя.
Она вылезла из постели — босая, в одной рубашке, и взялась прятать брошенный посреди комнаты чемодан.
— Тяжёлый… Кирпичи в нём, что ли?
— Господи! — взмолился он. — Твой Поль, котёночек, такой же пролетарий, как все. Наёмный рабочий умственного труда. Что я скопил за всю жизнь? Ничего. Только любимые книги…
Когда-то она была в его жилище и никаких книжек, кроме журналов с картинками, не видела. Но поверила. Запихнув чемодан под кровать, юркнула к нему в постель.
— С Тимохой я сама договорюсь.
…Больше недели прожил Клевецкий на подворье Штраховых. Всё это время он был в каком-то полуобморочном состоянии, воспринимая происходящее в виде чёрно-белых полос, как на матросской нательной рубахе: дни и ночи, Дина и Тимоха, страх и исступление. Рябило в глазах от постоянного напряжения, не проходило чувство тошноты. Его доили оба — физически и материально. Он не лгал Дине, утверждая, что ничего не скопил за всю жизнь. Банковского счёта, действительно, так и не открыл. Зато его холостяцкий бумажник всегда был полон. Бухгалтер ни в чём не отказывал себе. Но за дни сидения у Тимохи бумажник изрядно похудел, а заглянуть в чемодан не было никакой возможности. Не станет же он в комнате у Дины ломать сверкающие никелем замки собственного чемодана! Но даже если и сломаешь — как потом понесёшь его — под мышкой, что ли?
Однако далее оставаться у Тимохи становилось невмоготу. События на Листовской стали известны и в Назаровке. Степан Савельевич — мужик в общем-то неразговорчивый — дома всё же рассказал, что Абызов и Клевецкий задумали какую-то аферу, чуть ли не заговор против рабочих, но что-то у них разладилось: Абызова застрелил Шурка Чапрак, а Клевецкий сбежал. После такого сообщения платить Тимохе за приют и молчание надо было больше. Долгими ночами он валялся на старых кожухах в пропахшем потом чулане (флигель бородатого Тимохи весь состоял из одной комнаты, треть которой занимала плита, и тёмного чулана, где хозяин хранил всякое попавшее к нему по случаю, но не нашедшее сбыта тряпьё). Представляя себе, что может находиться в чемодане из сейфа Абызова, Клевецкий воспарял в мыслях над этим ничтожным миром занудливой нужды и мелочного расчёта. «Надо бежать… Бежать отсюда немедленно, — думал он. — Договориться с Тимохой, чтобы нашёл доброго извозчика, который отвёз бы в Иловайск, а ещё лучше — и чуть подальше, на первую же захудалую станцию за Иловайском. А там уже мне и чёрт не брат!»
Каждую ночь, проведённую у Тимохи, он считал последней, но всё не решался, оправдывая свою трусость необходимостью ещё и ещё раз продумать всё до мелочей: как забрать чемодан у Дины, сославшись на то, что «надо немного поработать с книгами», и как наедине переговорить с извозчиком, чтобы Тимохе — одно, а ему — другое…
Много думал о своей будущей жизни. И вот тут — странное дело! — все его построения разваливались. Даже в мыслях — никакого блеска, никакого радужного сияния не удавалось создать. Нельзя сказать, что такая несколько странная неспособность была для него неожиданной. Не первый раз в его помыслах всё будущее представлялось серым и тоскливым… без Нацы.
Ещё в марте её муж Роман Саврасов, который стал начальником милиции на Листовской, получил там квартиру в Технической колонии и привёз Нацу с ребёнком. Однажды весной, когда даже старые пни вдруг выстреливают молодыми побегами, Клевецкий увидел её с дочкой возле потребительской лавки. Тут уж воистину, как в сентиментальном романсе: «Я встретил вас, и всё былое…» Нежное, свежее лицо расцветающей женщины, ускользающие линии гибкого стана под лёгким платьицем, обнажённые плечи… Встретившись с ним взглядом, она испуганно округлила глаза и отвернулась. Потом нагнулась… Господи, не видеть бы ему этого! — и подхватила ребёнка на руки.
Наца была единственной женщиной, любовь к которой пришлось убить на взлёте. Увы! Это был, как оказалось, выстрел в собственное сердце… После этого он ещё два или три раза видел её мельком. Светлая пора жизни Леопольда Саввича, можно сказать, кончилась. Хорошо зная разбойный нрав этого босяка-коногона, он запретил себе думать о Наце. Но теперь, владея чемоданом Абызова, в котором, фигурально говоря, покоились все радости земные… Ну, что ей может дать большевистский управляющий, у которого, кроме долгов, — ничего! Он-то уж знал, в какую финансовую пропасть летел Назаровский кооперативный рудник!
Несколько раз Клевецкий просил Тимоху запирать его, а Дине говорить, что ушёл, мол, по делам. Сил не было смотреть на неё. И однажды вечером, выпросив у хозяина драный полушубок, замызганную солдатскую шапку и простые сапоги, Леопольд Саввич вырядился во всё это и направился в Назаровку. Был ранний вечер, довольно светлый — выпавший накануне снежок ещё не успел окончательно почернеть, разве что у завода…
Пока шёл по Юзовской окраине — опасался, сковывал его страх. Но скорая ходьба, лёгкий морозец, сладкий после Тимохиной норы воздух взбодрили его и окуражили. Умом понимал, что бояться ему, в общем-то, нечего. Абызова нет в живых, о содержимом чемодана никому не известно, свидетелей его общения с управляющим не было — попробуй что докажи! Умом-то понимал… Но при одной мысли о том, что его кто-то ищет (доверенные люди управляющего? рабочая милиция, которой Абызов мог наговорить что угодно?) сердце трепыхалось как телячий хвост.
Перейдя по мосту через Кальмиус, осмелел. Редкие прохожие не обращали на него внимания. Был бы это барин в шубе — другое дело. А кого может интересовать человек в драном кожухе и солдатской шапке? Таких тут сколько угодно. И летел он вперёд, полный трепетных надежд и мечтаний, всё больше убеждаясь, что вот ведь можно затеряться, можно пройти неузнанным, что мир широк и есть ещё в нём место для человеческих радостей и «красивой жизни». А осмелев, даже подрядил встреченного извозчика, которого отпустил на подъезде к Назаровке.
Вот уж теперь ему стало труднее… И не потому, что притомился. Страх осаживал его воспарение, всё ощутимей упирался в грудь своей чёрной ладонью. Но Клевецкий умел преодолевать этот страх. В чужой постели без страха быть невозможно.
Выйдя к железнодорожному переезду, за которым дорога круто сворачивала, он пошёл дальше по насыпи, рассматривая сверху весь посёлок. Тут, конечно, сложнее, чем в Юзовке, — пришлый человек более заметен. Ближе к туннелю, по которому Назаровский ручей пробегал под железной дорогой, рудничная пацанва раскатала горку и летала с насыпи кто на чём: на санках, в корыте, а то и на собственном заду. Леопольд Саввич присел на вкопанный обрезок рельса, которыми отмечаются стометровые отрезки пути, и долго наблюдал за детворой. Выбрал самого бойкого и независимого мальчишку, который позволял себе покрикивать на других, и те уступали ему дорогу. Подозвал его к себе.
— Пять рублей хочешь заработать? Мальчишка посмотрел недоверчиво из-под рваной шапки, аж белки глаз вывернулись.
— А кто не хочет? Ты, что ли?
— Я как раз и не хочу. Пройдём немного, чтобы твои друзья не глазели.
И, когда отошли в сторону переезда, Леопольд Саввич спросил:
— Ты знаешь, где живёт новый управляющий?
— Саврасов, что ли? Да там же, где Клупа жил. Только он полдома занимает.
— Вот и хорошо, — Клевецкий вытащил из кармана заранее заготовленное письмо, скорее — записку. — Отнесёшь и отдашь его жене, Настасье Степановне. Запомнил? Настасье Степановне из рук в руки, если, конечно, она одна. А вдруг кто ещё окажется…