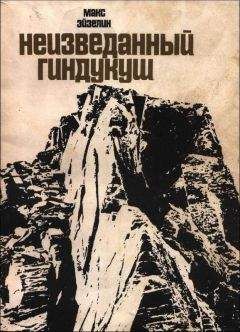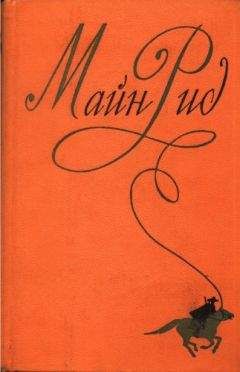– А этих двоих надо запереть и поставить надежную охрану.
Тут Турсун непроизвольно взглянул на Уроза. И только тогда увидел ампутированную ногу. Хотел крикнуть, подозвать, спросить, но было уже поздно. Освободившись от своих пленников, Уроз направлялся к паровой бане.
* * *
Старший саис и один из его подчиненных, из самых сильных, втолкнули Мокки и Зирех в подвал, где хранилась всякая запасная конская амуниция. Низкая, тяжелая дверь с шумом захлопнулась за ними. Проскрежетал ключ в огромном ржавом замке. Подвал с уздечками, седлами и вожжами освещался только слабым светом из подвального окна. Сильно пахло кожей.
Зирех схватила Мокки за плечи и воскликнула:
– Это в такой яме, в такой дыре они собираются нас держать?
– Недолго, – ответил Мокки вполголоса. – У Турсуна суд короткий.
По всему телу Зирех пробежала дрожь, зубы ее отбивали дробь. Она простонала:
– Он убьет нас, этот ужасный старик.
– Он справедлив, – заметил Мокки.
– Сюда идут, кто-то идет сюда, – прошептала Зирех. – Уже!
Вошел старший саис, поставил на землю кувшин с водой, положил несколько холодных лепешек. Прислонившись к двери, он сказал Мокки:
– Никто не велел мне этого делать. Я принес это в память о Байте, твоем отце. Мы с ним дружили в молодости.
– О, добрый Аккуль, да воздаст тебе Аллах! – поблагодарил Мокки.
И интонация этих слов, и опущенные плечи выражали несчастье и унижение.
Старший саис после паузы спросил:
– То, в чем Уроз… тебя обвиняет… это правда? Возможно ли такое?
Подбородок Мокки опустился на грудь. Он прошептал:
– Демон, наверное, вселился в меня…
Аккуль вздохнул и хотел выйти. Зирех удержала его. Она кинулась к его ногам, стала хватать его за руки, целовать их, забилась с криком в истерике:
– Умоляю, скажи нашему благородному судье, что виноват во всем Мокки. Я всего лишь бедная и слабая служанка. И скажи еще…
Аккуль оттолкнул Зирех. Дверь снова захлопнулась. Ключ снова проскрипел в замке.
– Не бойся, я возьму всю вину на себя, – пообещал ей Мокки.
– И правильно сделаешь, – крикнула она. – В чем меня могут обвинить? Яд? Его давно выпила земля. Собаки? Они сами напали из-за запаха крови и гноя.
Мокки тяжело опустился на землю, сел по-турецки. Подбородок опять уперся ему в грудь. А Зирех над ним все продолжала говорить, злобно, по-змеиному свистящим голосом:
– Во всем ты виноват. Ты все колебался… выжидал… постоянно. Мне все время приходилось подталкивать тебя. Если бы я была такой сильной, как ты, я была бы далеко отсюда, была бы свободная, богатая, красивая… А вместо этого…
Зирех резко провела рукой по липкому от грязи лицу, по грязным лохмотьям и изо всех сил плюнула под ноги Мокки. Тот словно и не заметил. Зирех схватила кувшин и лепешки, уселась как можно дальше от саиса и стала жадно пить и есть.
* * *
Перед домом Турсуна протекал один из бесчисленных арыков, которые орошают, делают плодородной землю в полях. Веселый ручей, берущий исток в усадьбе, пел свою обычную утреннюю песенку. Осенние цветы легко пританцовывали на ветру.
Сидя, согнувшись, на своем чарпае, который он придвинул как можно ближе к открытому окну, Турсун ощущал неясную признательность и за эту песенку, и за этот танец. Они помогали ему сохранять терпение. Когда он чересчур торопливо, и принимая случившееся слишком близко к сердцу, мысленно спрашивал себя: «Зачем он предпринял это путешествие, так его измучившее и доведшее до такого состояния? Как случилось, что добрый и преданный Мокки превратился в убийцу?» И в поисках ответа готов был вскочить с топчана и ходить взад-вперед по комнате, как загнанный зверь, то заставлял себя лишь внимательнее вглядываться в движения цветов и лучше вслушиваться в журчание воды в арыке. Время текло, как ручей, и колыхалось, как лепестки цветов.
В аллее послышался топот копыт. Турсун встал у стены так, чтобы можно было видеть, оставаясь незамеченным.
Уроз верхом на Джехоле, в сопровождении двух юных чопендозов, тоже на конях, остановился перед домом. Борода его была коротко с заострением подстрижена, щеки тщательно вымыты, и на нем были новые чапан и тюрбан. Кожа жеребца, тщательно вычищенная скребницей и протертая жгутом соломы, сверкала на солнце. Хвост и грива, вымытые, расчесанные и заплетенные в косички, радостно трепетали на ветру.
«На конюшне поработали славно», – машинально подумал Турсун. Голова его слегка выглянула из окна. Именно сейчас важно было не потерять сына. Уроз соскочил с седла, как сделал бы всякий здоровый человек, легко приземлившись на правую ногу. Два молодых человека соскочили с коней и с двух сторон взяли Уроза под мышки. Они служили ему костылями, и с их помощью он в несколько шагов достиг входа в дом.
Турсун подумал о тех неловких, некрасивых движениях, какие понадобились Урозу, чтобы пройти на галерею для почетных гостей, о тех движениях, которые ему приходилось делать, чтобы сесть, и грустно покачал головой. Слава Пророку, он правильно сделал, предоставив Урозу возможность осваивать не у него на глазах первые, неловкие движения инвалида.
Небольшая галерея для гостей выходила во внутренний дворик. Там был фонтан и росло несколько небольших деревьев. Вдоль трех стен были уложены матрасы, покрытые коврами, с множеством подушек.
Когда Турсун появился в галерее, Уроз сидел там один, в углу, прислонившись к стене, сидел, скрестив ноги так, что отсутствия конечности, не зная, можно было не заметить. Турсун тяжело уселся напротив него, опершись о другую стену. Едва окончил он этот маневр, как Рахим принес и поставил между ними большой поднос, на котором, кроме чайного сервиза, стояли еще тарелки с творогом, сладостями, ореховой нугой и вареньем на бараньем жире. Он налил чай в чашки и удалился. Отец и сын пили и ели, не поднимая головы. Временами Турсун бросал сквозь свои густые брови взгляд на сына и тут же его отводил в сторону. Теперь, когда лицо Уроза было чисто, своим цветом, утонченностью, заостренностью костей оно ему напоминало уменьшенную восковую маску того лица, к которому он привык. Эти новые черты вызывали у него тем более мучительное чувство, что он не мог подобрать ему название. Сопереживание? Жалость? Нежность? Как ему было знать? За всю его длинную жизнь ему не доводилось испытывать эти чувства. Он знал только одно, но знал с пронзительной силой: Уроз – его сын… Его сын, воистину его сын.
О, как ему хотелось встать, подойти и положить свои могучие руки на плечи, на похудевшую шею, с ее острым, приходящем в движение при каждом глотке кадыком!
Солнце стояло высоко, освещая и согревая дворик. Над землей пронеслась тень хищной степной птицы, ястреба, орла или коршуна. Внезапно Уроз произнес:
– Они летают совсем близко… там… на плоскогорье… где могилы кочевников.
Мороз пробежал по спине Турсуна. Этот голос не был голосом человека с нормальным рассудком. За то время, которое они были вместе без посторонних, Турсун впервые прямо посмотрел в глаза Урозу. Глубоко посаженные в орбитах, они казались выцветшими, словно увидели то, что находится за гранью жизни, и ослепли от безмерного горя.
– Там меня поджидал Пращур, со своими богами, – продолжал Уроз. Он говорил очень тихо, и Турсуну, чтобы услышать, приходилось наклоняться к нему. – Он видел, как я убил двух демонов с обрезанными ушами… хотя мне пришлось для этого тащить за собой сломанную ногу…
В потухших глазах зажегся огонь, словно черные угли сверкнули внутри глубоких орбит, уставившись на Турсуна так, как будто до этого они его не видели.
– Я убежал из больницы, – воскликнул Уроз, – потому что там меня поручили заботам женщины-иностранки, неверной, с раскрытым лицом, которой дозволялось разглядывать мою наготу и дотрагиваться до меня.
– Ты можешь поклясться именем Пророка? – спросил Турсун. Густые брови его вскинулись вверх.
– Клянусь Пророком, – исполнил пожелание отца Уроз.
Лицо Турсуна вновь приняло обычное выражение безразличия. Он сказал:
– Хорошо, сын мой… Продолжай…
Но Уроз молчал. Турсуну показалось, что щеки его еще больше ввалились, стали еще бледнее.
– Ты не слышал меня? – спросил он.
Уроз утвердительно кивнул головой. О, да, он слышал Турсуна. Он услышал голос отца, чтобы никогда, никогда не забыть интонацию удовлетворения и гордости, с какой были произнесены эти простые слова. Вот так же говорил и Мезрор, когда Кадыр, младший из его сыновей, делал честь ему своими поступками. И эта интонация, – точно такая же, точно такая! – принесла Урозу такое умиротворение, до краев наполнила его душу таким блаженством, что ему уже даже не захотелось продолжать свой рассказ. Зачем? Он достиг цели своего путешествия. Путешествия, которое вовсе не сводилось к переходу в муках через гигантские горы, которое длилось, которое заняло все пространство и все время его жизненного пути.