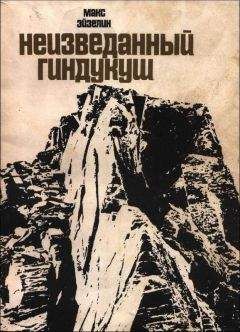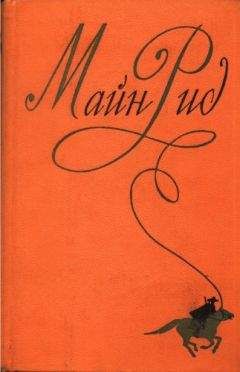«Турсун со мной… Он гордится мной, он – мой друг… Мне больше нечего сказать», – думал Уроз, обретший покой и ощущение небывалого счастья. Потом он испугался тишины. Он просто не мог допустить, чтобы одобрение его поведения отцом и столь долгожданное восхищение им ослабли, покинули сознание Турсуна. Он хотел их усилить, обогатить, наполнить живой материей, навсегда вселить их в грудь этого великолепного старика.
«Больница, это пустяк… вот когда он узнает все остальное… тогда… вот тогда… воистину…» – думал Уроз.
На щеках его заиграл румянец. Он воскликнул:
– Слушай, о великий Турсун, слушай, что пережил, что преодолел твой сын.
Голос Уроза был хриплым и прерывистым, силой и яростью своей похожим на поток, несущийся в глубине каменных ущелий. И так же как поток, голос его то затихал, превращался в сиплый шепот, то усиливался, громыхал, пока он пересказывал все, что пришлось ему преодолеть одному, покалеченному, не раз оказывавшемуся на грани жизни и смерти.
Урозу хотелось, дабы обнажился их истинный смысл, собрать все испытания, через которые он прошел, в один образ, хотелось, чтобы Турсун понял, что такое враждебная обстановка, суровый климат, мучительная боль, постоянная борьба со сном, прямые нападения и коварные подвохи. И вот, чтобы удовлетворить эту потребность в себе, он стал рассказывать не по порядку, не осмысливая сказанное, а просто как подсказывала память. В своем рассказе он не принимал во внимание ни расстояние, ни время. Он пропускал события, возвращался назад, опять кидался вперед, повторял уже рассказанное. Ни слова, чтобы объяснить или как-то связать между собой события. Гной в крови, яд в ведре, глухие расщелины, пепельное плоскогорье, тиски скал, караван пуштунов, исцеляющее прокаженных озеро, безухие псы, хитрости убийц и их нападения, льющееся на обрубленную ногу кипящее сало, – никакой связи между ужасными эпизодами, кроме перемежающихся, бурных и почти невероятных перемещений из пропастей к вершинам, от прострации к бурной активности, через ловушки и засады, из которых неизменно выходило победителем это вот тело, столько раз бывшее почти трупом.
Уроз рассказывал, не делая никаких жестов, и закрыв глаза. И открывал их с большими интервалами, только для того, чтобы взглянуть на Турсуна. И в эти секунды испытывал святое волнение.
Ибо ему было дано увидеть то, что никто до этого, в том числе и он сам, не мог видеть: лицо отца без выражения неподвижного величия, которое никогда не могли нарушить ни боль, ни гнев, как бы они ни были сильны. А вот теперь у него было такое ощущение, что под воздействием каких-то неодолимых внутренних сил, твердое дерево, из которого была сделана маска Турсуна, как бы давала трещины и отваливалась от его лица. И тяжелые веки его начали моргать. Раскрывались массивные губы. Шевелились морщины на щеках. Вздрагивала кожа на скулах. Дрожали кустистые брови. А на виске, рядом со шрамом, вздулась и билась, билась фиолетовая жилка.
Никто на свете не мог, как Уроз, оценить все эти отклонения от нормы. Его испытания, муки, унижения, ужасы, само падение и поражение на скачках – все это было оплачено сверх всяких ожиданий.
«Даже если бы я привез из Кабула королевский вымпел, так бы мне это лицо не раскрылось», – думал Уроз. И он с удовольствием согласился бы на еще большие муки, чтобы не дать вернуться чертам Турсуна в их привычное состояние величия и непреклонного достоинства, которое только и видели окружающие, в том числе и он.
Но настал момент, когда все было сказано. Уроз почувствовал усталость, изнеможение, опустошенность, известные ему после тяжелых скачек. Тело его откинулось на подушки. Голова кружилась. В ушах возник какой-то ритмичный стук. Что это было: начался жар? Или это звенели барабаны победы? Он не знал. Сквозь этот неясный шум до него донесся голос Турсуна:
– Пей, – приказывал он. – Пей же…
Уроз оторвался от подушек, посмотрел на отца и не поверил своим глазам. Турсун, великий Турсун, старейшина рода, протягивал налитую им чашку сладкого чая, протягивал ему, Урозу, сыну, слуге… Уроз едва не вырвал чашку у Турсуна и, не смея, взглянуть на него, стал пить…
Турсун медленно расправил плечи, выпрямился. Уроз показывал ему, насколько он нарушил обычай. И это нарушение обычая в свою очередь позволило ему самому понять, как велико было у него желание, когда он слушал рассказ сына о его страданиях, помочь ему хотя бы вот таким, идущим вразрез с традициями жестом. Он посмотрел на смиренно склоненный перед ним тюрбан и твердым голосом сказал неожиданно:
– Никакая победа ни в каком бузкаши не может сравниться с твоим возвращением.
Эта похвала была, слово в слово, тем, чего фанатически добивался, что больше всего хотел услышать Уроз на протяжении всего пути к дому. Он мечтал об этом, говорил об этом в бреду. Ради этих слов терпел он мучения и бросался в бой. И вот они прозвучали и смыли его поражение. Больше того: такая похвала означала победу над чемпионом королевских скачек. Но услышав ее, он не испытал никаких чувств.
Ни радости, ни гордости, ни даже успокоения, – ничего. Как будто тело его стало совсем пустым, а мысль умерла. Хотя это состояние длилось всего одно мгновение, Урозу оно показалось вечностью. Его вернул к жизни гнев. Гнев на самого себя и только на себя. Что же такое сидело в нем, в его спинном мозгу, что лишило его вознаграждения, похитило у него самое ценное и самое необходимое? Похитило подарок, преподнесенный отцом, великим Турсуном. Отцом, который его понимал и одобрял, воздавал ему почести и страдал за него. Отцом, его единственным другом.
Инстинктивное движение – какая-то тоска, какой-то зов – толкнуло торс Уроза вперед, приблизило его к Турсуну настолько, что между их головами расстояние стало не больше ширины ладони. Все поле зрения Уроза заняло лицо Турсуна и заслонило собой весь мир. И тут он понял, что не было ничего удивительного в его пагубном безразличии. На лице Турсуна опять застыла маска, сделавшая снова его недоступным. А где же был тот человек, который только что следил за его рассказом с таким страстным состраданием? Кто протянул ему чашку чая, как простой бача?
«Вот когда все порвалось, – подумал Уроз, уверенный, что интуиция его не подводит. – Он почувствовал, что я застеснялся, что мне стало стыдно и за него, и за себя. Он никогда не простит этого ни себе, ни мне».
Не спуская с него взгляда, Турсун сказал:
– Теперь я знаю о твоем подвиге, о Уроз, и воздал тебе честь. Теперь пришло время узнать мне так же подробно о Мокки. Он ждет моего решения.
– Тебе о нем известно все, – ответил Уроз.
– Мне известно, что он пытался убить тебя, – посмотрел на него Турсун. – Но по какой причине?
Тут Уроз вспомнил, что он действительно не назвал причину, объясняющую поведение саиса. По небрежности? Или умышленно? И сказал:
– Мокки хотел забрать коня, вот и все.
Поглаживая складки тюрбана, Турсун подумал:
«Совсем бедный саис… Такой случай… Да… Но все-таки Мокки… Самый добродушный, самый покорный и самый преданный, с раннего детства!»
Турсун спросил Уроза:
– Зачем ему было тебя убивать? Ему же ничего не стоило ускакать на Джехоле.
– Боялся, что придется жить как вору, – ответил Уроз. – А если бы я умер, конь перешел бы ему по закону. Я продиктовал одному писарю завещание.
– Вот как? – удивился Турсун. – И Мокки знал об этом?
– Да, – признал Уроз.
– И он попытался тебя убить и забрать бумагу сразу после этого?
– Нет, – ответил Уроз.
Он решил, что больше не скажет ничего. Однако тут же добавил:
– Его подтолкнула на это кочевница.
– Кочевница? – продолжал расспрашивать Турсун. – Ты ее подобрал по дороге, так ведь? Чтобы она тебя обслуживала?
– Нет, – пояснил Уроз. – Она понравилась саису, он ее хотел…
– Довольно, – остановил его Турсун. – Теперь я знаю все, что мне надо знать.
Он уперся локтями в скрещенные колени и положил подбородок между огромными мозолистыми ладонями. Не позу для мирного раздумья искал он таким образом. Он просто хотел скрыть жесткое подергивание мускулов и шрамов у себя на лице и на шее. Размышлять, взвешивать, прикидывать и судить он сейчас не мог. Все, что он хотел, все, что он сейчас требовал от своего рассудка, так это чтобы он помог ему совладать с диким, животным гневом, обжигающим ему кровь, кожу, внутренности. А вместо этого мысли лишь питали и раздували этот огонь.
«В больнице… да… там приличия и честь были на его стороне, – размышлял Турсун. – Но после этого он только играл со своей жизнью, со своей душой, с судьбой, причем играл нечестно. Выбрал безумный маршрут… провоцировал и извращал самое наивное сердце… а в качестве соучастницы… взял шлюху… он просто отказался от своей ноги…»
Ладони Турсуна еще как-то могли скрывать подергивание его челюсти, но вот дыханием он уже не владел, и оно стало коротким и прерывистым, от чего чапан у него на груди поднимался и опускался все чаще и чаще.