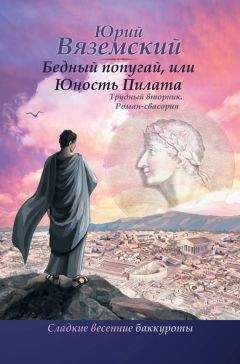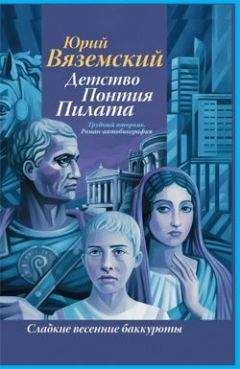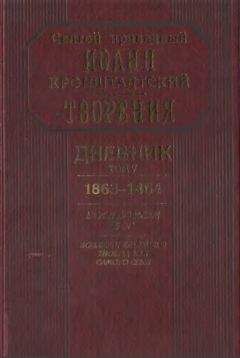Вардий принялся есть яблоки, нарезая их мелкими кусочками. И продолжал:
VII. — Я этой «благожелательной» стадии любви Феникса особенно благодарен, потому как между нами установилось самое тесное общение. Мы встречались чуть ли не каждый день: гуляли по городу; вот, как сейчас с тобой, ездили на лошадях в горы; отправлялись в Остию и совершали морские прогулки. Я очень нужен был тогда моему любимому другу. Ведь кому еще он мог рассказать о своей бескорыстной, душевной любви к Госпоже?..
Но сколько можно рассказывать об одном и том же?!.. И Феникс вновь стал сочинительствовать. Работал он, как правило, по утрам, непременно на пустой желудок, уверяя меня, что так ему лучше слышится «пение Муз», что, жаждя и алча, ему легче вместе с первым солнечным лучом возноситься на Геликон, или на Пинд, иль на Парнас — он, по его словам, на разные горы возносился и к различным мусическим источникам припадал… На землю он возвращался ближе к полудню. Плотно и радостно завтракал. Затем садился записывать сцену, которую, как он утверждал, «Трагедия велела, и Музы ему напели». А вечером приходил ко мне или меня к себе приглашал и читал сочиненное, вернее, «напетое»…
Я, разумеется, хвалил его работу. А он всякий раз возражал: «Я тут ни при чем, Тутик. Это ты работаешь, когда пишешь стихи. А у меня — какая работа?! Мне поют. Я запоминаю. Потом записываю… Моя Госпожа — она и есть Трагедия. Она будит меня еще ночью и заставляет думать о Медее и только о ней. Я повинуюсь. И когда является первый солнечный луч, я уже не просто о ней думаю — я вижу ее, следую за ней, слышу ее речи… Тут только надо внимательно слушать и хорошенько запомнить, чтобы потом записать всё, что видел, что слышал и то, что почувствовал вместе с Медеей, с Язоном, с Ээтом-царем».
Я эти его объяснения воспринимал как некую кокетливую метафору. И однажды сказал: «Ты ведь никогда не писал трагедий. Это — первое твое сочинение подобного рода. А пишешь, как мастер. Ничуть не хуже признанных мастеров, Басса или самого Вария… Как тебе удается? мне любопытно. Музы — я понимаю: мы все на них ссылаемся. Но правда: ты у кого научился?»
Феникс посмотрел на меня так, будто я неожиданно ударил его по лицу. Даже головой дернул, словно от удара. И, ничего не ответив, принялся складывать таблички.
«Я что-то не то сказал?» — спросил я, видя, что мой друг собирается уходить.
«Всё правильно, Тутик, — грустно ответил мне Феникс. — Сейчас ты сказал, и мне самому стало казаться, что последняя сцена записана мной так плохо, будто ее действительно сочинили Басс или Варий…»
И, обняв меня, ушел. И долго — недели две или три — ни кусочка не читал мне из своей трагедии, хотя, я знаю, каждое утро возносился, после полудня записывал и вечером приходил ко мне, чтобы пригласить на прогулку, отобедать у меня, или у него, или у старых наших друзей — Аттика, Руфина, Педона Альбинована, с которыми восстановил отношения, или у новых наших приятелей — Секста Помпея и молодого оратора Брута… Мне ничего не читал, как я его ни просил, и другим строго-настрого запретил говорить, что трудится над «Медеей».
И лишь написав сцену, в которой Медея встречается с Язоном в храме Гекаты и оба понимают, что отныне жить друг без друга не могут, ибо Язону без Медеи суждено погибнуть, а Медея, если погибнет Язон, ввек себе не простит — ни Солнцем, ни Родиной, ни любовью к отцу не оправдает своего соучастия в гибели героев, своего пренебрежения к богами ниспосланной ей любви… Представь себе! Даже не дописав до конца сцены, прибежал ко мне и не в экседре, не в таблинуме — он мне не дал себя туда провести — в атриуме, рядом с прихожей, взахлеб, срывающимся голосом и с радостным бешенством во взгляде принялся читать мне монологи и диалоги! А кончив, грозно воскликнул:
«Такое разве возможно сочинить?! Побойся богов, Тутик! Какие там бассы и варии! Сам Вергилий такую любовь не мог описать!.. А я, как видишь, сегодня сподобился! Так высоко залетел, что услышал, Тутик, услышал! Почувствовал и запомнил, собачий я сын!»
…Собачий?.. Наверно, потому, что действие происходило в храме Гекаты… Сцена и вправду была впечатляющей, хотя не имела конца. Стихи звучные, сочные и при этом — легкие, воздушные. Не как у Вария или, тем паче, у Басса или Понтика… Но никакой особой божественности я в них не ощутил. Хорошие стихи и яркая сцена — не более. Божественным исступлением был охвачен сам сочинитель, который якобы ничего не сочинял. Мне даже подумалось: дай ему в таком состоянии прочесть другие стихи, намного менее искусные, он бы их продекламировал, наверное, так же великолепно!
Гней Эдий сначала надолго замолчал. А потом, выйдя из оцепенения, сделал знак рабу собирать со стола и готовить лошадей.
— Отдохнули и в путь. У меня дома много работы, — почему-то суровым тоном заметил мне Вардий.
Когда встали и направились к лошадям, я отважился и попросил своего спутника:
— Пожалуйста, дай мне прочесть «Медею».
Вардий еще суровее посмотрел на меня и спросил:
— Откуда я тебе ее возьму?
Раб встал на карачки, Гней Эдий взобрался к нему на спину, а оттуда — на лошадь.
— Я хочу сказать: когда мы вернемся домой, ты одолжишь мне на время его трагедию? — уточнил я.
— Я уже сказал: нет. Ты что, не расслышал? — ответил Вардий.
Раб и меня хотел подсадить на лошадь. Но я, отстранив его, прыгнул по-кавалерийски.
— Ловко, — одобрил мой прыжок Вардий и, прежде чем тронуть лошадь, объявил:
— Ни я, ни кто другой не сможет удовлетворить твою просьбу. Свою «Медею» — вернее, первый ее вариант — Феникс никому не давал переписывать, хранил у себя дома на восковых дощечках за семью запорами. А через несколько лет уничтожил. Сжег в банной печи. И говорил, что славно потом пропотел в калдарии…
Много писал я тогда, но всё, в чем видел изъяны,
Отдал охотно я сам на исправленье огню…
Он и элегии сжег, которые писал в эти годы. Оставил лишь немногие, где ни слова не говорилось о любви.
На обратном пути Вардий был менее разговорчив. Вернее, лошади под горку и в сторону дома бежали намного резвее, и мы двигались в основном рысью, а на ровных участках — галопом. Шагом ехали редко.
К тому же на первом шаге Вардий со мной не поравнялся, и мы молча следовали друг за другом.
Когда Вардий во второй раз перевел свою кобылу на шаг, я сделал вид, что замешкался, и свою лошадь попридержал так, чтобы оказаться рядом с Гнеем Эдием и сбоку от него. И стал на него смотреть — не то чтобы призывно, но радостно и улыбчиво, словно давно не видел и соскучился.
И спутник мой, как мне показалось, без всякой охоты, сообщил мне вот что:
VIII. В следующем после своего замужества году — консулов года Вардий не назвал — Юлия разрешилась от бремени и родила Тиберию мальчика. Лето выдалось очень жарким, и младенца сразу же после наречения — его в честь отца назвали Тиберием — из Рима перевезли в Аквилею, в тень «высокоподпоясанных» пиний. Юлия была инициатором этого переезда и именно она предложила для новорожденного имя «Тиберий».
Там, в Аквилее, через месяц после своего появления на свет ребенок умер: вдруг весь посинел, задергался в частых конвульсиях и испустил дух.
Тиберий, отец младенца, тяжело переживал утрату. Отбросив всегдашние свои невозмутимость и замкнутость, он горько плакал над крошечным телом усопшего, словно ребенок кривя рот и кулаком размазывая слезы. На ночных похоронах, когда прах младенца предавали пламени костра, Тиберий, говорят, чуть не упал в обморок, и его вовремя поддержал Гней Пизон, его самый близкий соратник и спутник.
Юлия же, напротив, была сдержанна и будто бы безучастна ко всему происходящему: ни на выставлении тела, ни на похоронах ничем не выражала своих чувств, словно статуя, стояла возле супруга и, как весталка на шествии, следовала за ним, когда он куда-нибудь отправлялся, только на него глядя и за ним следя, а других людей не видя и не замечая.
Когда же младенца погребли, стала приветливой и внимательной со всеми, кто к ней обращался: с отцом, с мачехой Ливией, с ее матронами и наперсницами, с матерью Скрибонией, которой в эти скорбные дни разрешили и даже рекомендовали быть рядом с дочерью. А замечать она перестала теперь мужа, Тиберия Клавдия Нерона. Вернее, на людях была с ним подчеркнуто внимательна и уважительна, но, стоило им остаться наедине, на вопросы мужа не отвечала, удалялась на свою половину, ела и спала отдельно, а когда случалось им встретиться в атриуме или на кухне, словно не видела его и проходила мимо. И лишь когда в доме появлялись посторонние люди, вела себя с мужем так, будто ничего не произошло в их отношениях: всегда была рядом с супругом, с ним разговаривала и иногда даже шутила.
Тиберий не докучал Юлии. Недели две он терпеливо выжидал, когда жена его оправится от горестного потрясения и к нему переменится. Но Юлия не переменялась. Холод ее становился все более демонстративным.