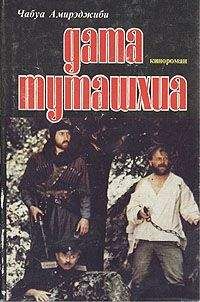Повар продрал было глаза, хотел что-то сказать и не смог. Только со второго раза выдавил из себя:
— Коста, выйди, а то в миски мух набилось.
— Уже иду! — раздалось в ответ, но появился Коста не скоро.
Видно, это и был Дастуридзе, — кому бы еще быть Костой? Выглядел он лет на сорок и похож был на трясогузку.
— Ты что наделал? — заорал он, заглянув в миски с чанахи. — Ты куда столько мяса навалил? А ну, давай сюда таз.
Таз был уже наготове, его и приносить не надо было. Дастуридзе прошелся вдоль стола, из каждой миски вынимал по куску мяса, бросал в таз и бормотал:
— Сколько мяса выбросить! Кто съест столько мяса? Погубить меня хотите? По миру пустить?.. Куда столько?.. Кому?..
Судомойка вытирала тарелки. Повар стоял, позевывая, будто и не слышал. Дастуридзе заглянул в последнюю и снова завел:
— И куда столько? Чистый шашлык! Поставь на лед! Разорить меня хотите? — Он уже остыл, только бормотал себе под нос с явным, как я заметил, удовольствием и уже повернулся уходить, как я крикнул:
— Коста, давай сюда, дело у меня к тебе!
Он подошел к окну и оглядел меня с головы до ног. То ли я ему не понравился, то ли еще что, но он повернулся ко мне спиной.
— Плесни-ка этому мясного отвару, да побольше, — бросил он повару. — И хлеба дай!
— Дело у меня к тебе, — крикнул я ему в спину. — Нужен мне твой отвар…
Он оглянулся, долго так разглядывал меня и ушел, не сказав ни слова. Повар поставил на подоконник полную миску и принес хлеб и ложку.
— Поди поешь! Вот туда… — Он показал на скамейку, где сидел Дата.
Я чуть было не протянул руку к миске, но спохватился, потому что заговорила баба:
— Господи! Он каждый день долбит нам, что мы его разорить хотим. А ты хоть раз возьми и разложи этого чертова мяса ровно столечко, чтобы и вынуть уже было нечего…
— Помолчи лучше. Пробовал я… В прошлом году… Тебя здесь не было, не знаешь…
— Ну и что было?
— Еще больше озлился.
— И что же ты? Прибавил?
— А что мне было делать?
— Ну, а он?
— Он добавку обратно вытащил… — Тут повар заметил, что я еще не ушел. — Ступай, ступай, только смотри, чтоб у миски ноги не выросли, а то пропавшие миски тоже на меня вешают.
— Он, видишь, — повар уже забыл про меня, — любит от всего хоть кусок оторвать, чтобы поменьше оставалось. Прямо страсть какая-то…
— Да зачем ему это?
— Ладно, баба! Помолчи… Все равно не поймешь.
Вот он каков, этот Дастуридзе. С какого боку к нему подъехать? — соображал я и не мог ничего придумать. А он, бог милостив, вдруг входит и прямо к окну. Поглядел на миску, ложку и хлеб, потом на меня… Тянуть дальше было нельзя.
— Обезьяна меня прислал. Дело есть, — сказал я.
У Дастуридзе слегка дернулась бровь, и такое удивление разлилось по лицу, что меня взяло сомнение — Дастуридзе ли это? А если и он, дело-то известно ли ему?
— Что?.. Кто?
— Обезьяна!!!
— Не знаю я такого… Знать не знаю… Слыхом не слыхал, — зачастил он сердито и негромко.
— Не знаешь, говоришь?
— Не знаю и знать не хочу! — сказал Коста, только потише и позлей.
— Эй, Кола, — крикнул он повару, — забери посуду с окна, отвару ему… многого захотел.
— Дело, конечно, хозяйское, — сказал я, — но только и Обезьяна тебя давно знает, и Яшка сурамский тоже привет тебе посылал.
— Никого из них не знаю. Что-то ты напутал! — выпалил Дастуридзе совсем почти неслышно и вдруг схватил ложку, зачерпнул отвару и заорал повару:
— Ты что, Кола, соли жалеешь? Какой преснятины налил, а ну, давай соль!
— Это где же видано, чтобы отвар солили? Соль на столе, соли на свой вкус. Соли, значит, мало, — веселился я. — Забирай свою бурду, и пусть твой Кола посолит ее покруче и клизму себе поставит!.. А сам давай сюда, гусиный помет, сказано тебе, дело есть!
— Уже иду, — промямлил он, едва ворочая языком, и пошел к дверям.
Пока Дастуридзе притащился, я устроился на одной из лавочек. Он плюхнулся рядом со мной, и я еще рта открыть не успел, как он затарабанил:
— Чего надо! Чего пристал?.. Откуда взялся? Прилип, как к маленькому… Думаешь, на дурака напал? Наплел черт знает что… С каким-то чертом лысым перепутал, а теперь лезет и лезет, скажи на милость…
И пошел, и пошел… Быстро, без передыху, слова путаются, слюной брызжет. А в глазах и следа волнения нет. Чувствую, прощупывает он меня, выход ищет, а тарабарщина эта так, для отвода глаз. Он уже вконец запутался, порол бог знает что, слова не разберешь. Тут-то и подошел к нам Дата, тихо-мирно, на плече две косы.
— Здравствуй, Коста! — Дастуридзе как язык проглотил. — Давненько мы, брат, с тобой не виделись… Годка четыре, не меньше, а?
Дата поставил косы на землю, оперся на них и спокойно разглядывал Дастуридзе.
На кресте и Евангелии могу поклясться, чтобы человека так шибануло, я в жизни не видел ни раньше, ни после.
— Эге… да это ведь Дата! — выдавил он из себя.
— Дата, он!
Он переводил глаза с меня на Дату, с Даты на меня — соображал, вместе мы явились или каждый сам по себе. Смекнул, видно, что про Обезьяну Дата знать не мог. Но откуда я знаю, тоже не мог в толк взять. Видел он меня в первый раз. Присмирел наш хозяин, притих и так и эдак про себя прикидывал, откуда вся эта история с Обезьяной могла нам в руки попасть. Стал он наши косы разглядывать, лезвия пальцем попробовал — то ли время хотел выиграть, то ли чего еще ждал.
— Не слушает он меня, — сказал я Дате. — Думает, я за себя стараюсь. А мое дело маленькое. Мое дело сторона. Мне и отвар не нужен, я его и есть не стал, а уж какой был отвар, слава тебе господи! Просили меня слово передать. Станет слушать — хорошо, нет — дай ему бог всего хорошего, тебе — доброй косовицы, а я обижусь и пойду, куда ноги понесут.
— Так как же ему быть, Коста? — спросил Дата. — Говорить или уйти?
Дастуридзе молчал и уже не разглядывал нас, а сидел, уставившись в землю, и думал.
— Ну, раз так, говори! — сказал мне Дата.
— Они с Обезьяной — есть такой вор ростовский — в России богатый монастырь с мокрым делом обчистили. Ты говоришь, последний раз года четыре назад его видел?
Вот тогда и свело их дело. След их взяли быстро, в лицо тоже знали, погоня на пятки им наступала, и они — прямиком в Грузию. Одного золота притащили одиннадцать фунтов — с икон золото поснимали, украшения всякие, цепочки да еще шестнадцать бриллиантов. Один — со сливовую косточку. Два — с абрикосовую. Тринадцать — с вишневую. Мельче не было. И еще набрали серебро, подсвечников и еще бог знает сколько всего, не перечесть… Поделили они все поровну и пришли в Хашури. Обезьяну Коста оставил здесь, а сам подался в Сурами, был у него там барыга — так он Обезьяне сказал. Вернулся и говорит: барыга дает каждому за все про все по восемьсот червонцев. Обезьяна прикинул: пока покупателя найдешь, тебя накроют, и восемьсот червонцев уйдут, и в тюрягу угодишь. Согласился. А Коста-шакал что сделал? Он в Сурами сторговался с Яшкой отдать все за три тысячи червонцев, а напарнику, видишь, сказал — восемьсот. Так что из доли Обезьяны семьсот загнул. Мало того — пока шли в Сурами, он у товарища стянул бриллиант, тот, что с косточку сливы, и один, который с абрикосовую. И проглотил. Пришел в Сурами — нет Обезьяновых бриллиантов. Обезьяна обшмонал дружка. А чего искать, когда они у него в кишках. Ну, известно, драка, мордобой, то-се. Коста и говорит: о бриллиантах твоих я ничего не знаю, хочешь, забирай из моей доли две тысячи и проваливай на все четыре стороны! Таким вот путем Коста с сурамским Яшкой спровадили Обезьяну с его тысчонкой. Коста остался при двух тысячах и парочке крупных бриллиантов. Про Якова и говорить нечего. Там тысяч на десять, не меньше было.
— М-да, слабоват мужик, — сказал Дата.
— Ты о ком это?
— Да Обезьяна или как там его.
— Обезьяна мне так сказал: я потому уступил, что мне на пятки наступали, деваться было некуда.
— Я не о том. Камушки свои зачем уступил — вот я о чем.
— Я сам Обезьяне говорил, прикончил бы дружка, распотрошил и нашел бы бриллиантики в желудке или в кишках.
— А он?
— Я, говорит, тогда в ворах ходил, а человеку воровской крови в свином дерьме не пристало копаться. Видишь, какой разговор?
— Можно было что-нибудь еще придумать…
— Я ему и это сказал, а то нет… Подождал бы, пока переварит, и заставил бы своими руками свое же дерьмо перебрать, перемыть и найти, а тогда бы и брал.
— А он что?
— А что? Дастуридзе, видишь, говорит ему, желудок у меня туго варит: запором мучаюсь, пока дождешься, нас накроют, а так бы отчего не подождать, сам бы увидел, что не брал я ничего и не глотал.
— Выходит, правда за Коста, ничего не скажешь! Брал не брал, а погоня ведь здесь!
— Обезьяне куда деваться? Выдал он Коста напоследок — барабану столько не перепадает… И прощай, друг дорогой!