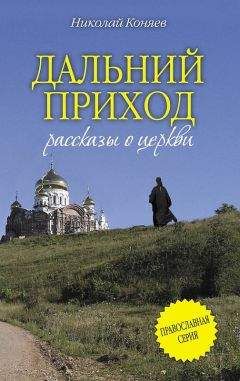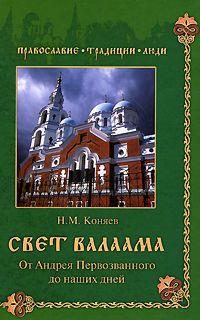искажает факты, но как бы тщательно отбирает их, несколько идеализируя отношения в семье Каннегисеров. И, повторяю, это по-человечески очень понятно. Для Алданова — Каннегисер не был посторонним человеком…
Но вот что странно… Вчитываешься в протоколы допросов, снятых сотрудниками ПетроЧК с очевидцев убийства, и вдруг явственно начинаешь ощущать какую-то особую торжественность, даже некий поэтический ритм в рассказах о происшествии этих весьма далеких от поэзии людей.
«Убийца высокого роста. Бритый. Курил папироску и одну руку держал в кармане. Пришел приблизительно в десять часов утра. Молча сел у окна и ни с кем не разговаривал. Молчал».
Это показания швейцара Прокопия Григорьевича Григорьева. А вот как рассказал об убийстве другой швейцар — Федор Васильевич Васильев: «Урицкий направился на лестницу к лифту, я открывал ему дверь. В этот момент раздался выстрел. Урицкий упал, женщина закричала, а я растерялся. Потом я выскочил на улицу — преступник ехал на велосипеде».
И в рассказе Евгении Львовны Комарницкой слова тоже выстраиваются, как будто она пересказывает только что прочитанное стихотворение: «Я видела молодого человека, сидящего за столиком и смотревшего в окно. Одет он был в кожаной тужурке, фуражке со значком, в ботинках с обмотками…»
Но, по-видимому, так все и было — Леонид Каннегисер убивал Моисея Соломоновича Урицкого, как будто писал свое самое главное стихотворение… Вошел в подъезд полукруглого дворца Росси, молча сел у окна и закурил папироску. Красивый, высокий, собранный. Урицкого он убил с первого выстрела — наповал. Повернулся и вышел из вестибюля. Хладнокровно сел на велосипед и поехал по Миллионной улице… В этом пленительно-страшном произведении не было ни лишних слов, ни суетливых движений, ни невнятных пауз. Впрочем, иначе и не могло быть. Такие произведения пишутся сразу и всегда набело…
Марк Алданов писал о нем: «Яс ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничто в нем не предвещало».
Тут, наверное, нужно добавить слово «внешне». Хотя Алданов и пишет, что летом 1918 года Леонид Каннегисер ходил «вооруженный с головы до ног» и «предполагал взорвать Смольный институт», но это действительно больше походило на игру, в этом было что-то от его отчаянно-красивых и вместе с тем неглубоких стихов:
И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,
Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне…
И все же, читая дневниковые записи Леонида Каннегисера, не трудно увидеть, что терроризм серьезно занимал мысли молодого поэта, в терроризме он искал нечто большее, чем можно найти в убийстве по политическим мотивам.
«18 мая в день моего отъезда из Петрограда вечер был теплый, воздух — мягкий. Я приехал на трамвае к Варшавскому вокзалу и соскочил на мосту, что через Обводный канал. За Балтийским вокзалом догорала поздняя заря, где свет тускло поблескивал в стеклах Варшавской гостиницы. Я знаю: двенадцать лет назад в этих стеклах на миг отразилась другая заря, вспыхнувшая нежданно, погасшая мгновенно. Тогда от блеска не выдержали стекла Кирилловской гостиницы. Очевидец рассказывал, что они рассыпались жалобно, почти плаксиво. Если они жалели кого-нибудь, то кого из двух лежащих на мостовой? Мертвого министра или раненого студента? Да, здесь Сазонов убил Плеве…»
Слова Каннегисера о заре, «вспыхнувшей нежданно, погасшей мгновенно», стоит запомнить. Уже в тюремной камере, ожидая неизбежного расстрела, Каннегисер попытается составить нечто напоминающее завещание — текст, в котором попробует раскрыться, объяснить подлинные мотивы своего поступка. Здесь, на этом торопливо исписанном вдоль и поперек листке бумаги, снова будет говориться о свете…
«Человеческому сердцу не нужно счастья, ему нужно сияние. Если бы знали мои близкие, какое сияние заполняет сейчас душу мою, они бы блаженствовали, а не проливали слезы. В этой жизни, где так трудно к чему-нибудь привязаться по-настоящему, на всю глубину, — есть одно, к чему стоит стремиться, — сияние от божественного. Оно не дается даром никому, — но в каких страданиях мечется душа, возжаждавшая Бога, и на какие только муки не способна она, чтобы утолить эту жажду!
И теперь все — за мною, все — позади, тоска, гнет, скитания, неустроенность. Господь, как нежданный подарок, послал мне силы на подвиг, подвиг совершен — ив душе моей сияет неугасимая божественная лампада…
Большего я от жизни не хотел, к большему я не стремился.
Все мои прежние земные привязанности и мимолетные радости кажутся мне ребячеством — и даже настоящее горе моих близких, их отчаяние, их безутешное страдание — тонет для меня в сиянии божественного света, разлитом во мне и вокруг меня».
О побочных мотивах убийства Каннегисером Урицкого мы еще будем говорить, сейчас же выскажем на основании только что процитированного «завещания» предположение, что скорее всего Каннегисер остановил свой выбор на кандидатуре Моисея Соломоновича не столько из личных или партийных соображений, а руководствуясь исключительно требованиями драматургического жанра. Трудно было найти в Петрограде более омерзительного подонка-палача, чем всесильный шеф Петроградской ЧК. И никто другой, кроме Урицкого, не способен был так эффектно оттенить благородство и красоту душевных помыслов террориста… А если прибавить к этому исключительную трудность и опасность замысла, то достигается почти идеальная жанровая чистота. Прекрасный, отважный юноша-поэт и вельможный мерзавец, запугавший своими расправами весь город… Это ли не апофеоз терроризма?
И неземным гулом судьбы наполнялись хотя и красивые, но в общем-то ученические стихи:
Искоренись, лукавый дух безверья!
Земля гудит, — о, нестерпимый час, —
И вот уже — серебряные перья
Архангела, упавшие на нас…
Потом, уже в ходе следствия, прорабатывались побочные версии. И сами чекисты, и родные Леонида пытались подыскать подходящий мотив. Официальная версия, как мы знаем, основывалась на том, что Леонид убил Моисея Соломоновича Урицкого в отместку за расстрел своего друга Владимира Борисовича Перельцвейга. Следователи, Эдуард Морицевич Отто и Александр Юрьевич Рикс, склонны были полагать (и у них были весьма существенные основания для этого), что за спиной Леонида Иоакимовича Каннегисера стоит достаточно мощная и антисоветски настроенная сионистская организация. Мать Леонида — Розалия Эдуардовна Каннегисер заявила на допросе, что Леонид убил Урицкого, так как «последний ушел из еврейства».
Об основаниях, на которых строились подобные предположения, разговор впереди, пока же скажем, что ни одна