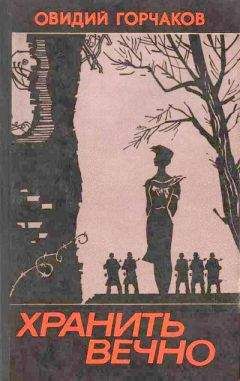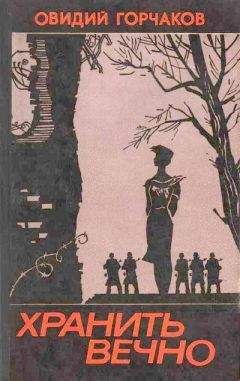Обштопали мы Дзюбу!..
— Так говоришь, не знаешь, господин урядник, где мальчишка с девчонкой? — допытывался Кухарченко. — И где начальник полиции — тоже не знаешь?
Полицай, здоровенный дядя ростом чуть не с Токарева, мотал облепленной сеном головой, скреб пальцами нестриженый затылок.
— Братцы! — вдруг закричал Гущин. — Посветите! Да на нем сапоги Боровика!
— Увести! — коротко приказал Кухарченко.
За дверью протрещала короткая очередь.
— Хватит вам за полицаями гоняться! — услышал я громкий голос Самарина. — Надо здесь пошарить хорошенько: нам позарез нужны печать, штампы, бланки, пропуска...
Партизаны снова занялись обыском. Кто-то взламывал шкафы и выкидывал из канцелярских столов ящики с папками и кипами бумаг. Я прошелся по комнатам. Шум везде стоял невообразимый. Бойцы перекликались, громыхали сапогами. В одной из комнат на полу, среди выброшенных из столов ящиков, разливалась лужа фиолетовых чернил. Луч моего фонарика скользнул по стоявшему у стены дивану. Я приподнял сиденье. В диване лежали лотки с минами для ротного миномета. «Вот Жариков обрадуется!»
— Гаврюхин! — крикнул за спиной Самарин. — Гляди! Вот книги податей, поборов и повинностей! Их надо сжечь! А в этой папке — отобранные у колхозов акты на вечное пользование землей. Их надо отдать крестьянам.
— Охота вам с бумагой возиться,— презрительно сказал Кухарченко.
В дверь ворвался разведчик Козлов. Разгоряченное лицо его искажено яростью, в темноте смутно виднелись белки расширенных глаз.
— Нет, Лексей, нигде нет! — крикнул он задыхаясь и рванул борт распахнутого на потной голой груди офицерского френча.
— Кого нет? — наморщился Кухарченко — он терпеть не может Васькиных истерик.
— Их в Пропойск успели увезти — Милку и Боровика!
— А ну выходи! — закричал Гущин. — На ту сторону — за мост пойдем. Может, полицаи там окопались.
Но и на заречной стороне не оказалось полицейских. Только на самом мосту, свесив руки в темную воду, неподвижно лежал человек с белой нарукавной повязкой.
По гулкому мосту кто-то гнал большую рыжую корову. Я узнал Жарикова.
, — Где раздобыл? Полицейская? — спросил я его. — Вот тебе подарочек. Лотки с минами.
— Передай Киселеву. А буренка стельная. Жалко на мясо брать. Я ее на яловую мигом смахну, удружу тетке какой-нибудь. Век благодарить будет.
Лицо его вдруг позеленело. Это взвились над деревней три зеленые ракеты... С одной стороны, подумал я, Самарин и Жариков, с другой — Кухарченко и Козлов. Как по-разному они воюют!..
Группы партизан, рыскавшие по селу в поисках полицейских, стали сходиться на КГТ С начала боя, если верить часам, прошло шестьдесят минут. Неужели только час?
5На следующий день ночной бой с ржавской полицией казался каждому из нас кошмарным сном, оставившим после себя спутанные, бессвязные, отрывочные воспоминания. Когда говорили об этом не вполне удачном бое, то говорили, казалось, о разных боях — настолько противоречивы порой были высказывания партизан. Впрочем, так оно и есть: большой бой распадается на столько маленьких, отличных друг от друга боев, сколько в нем, в большом бою, участников. (Преувеличивали мои друзья, как обычно, самым беспардонным образом, причем всем казалось, что они не выдумывают, а припоминают, уточняют подлинные события. Число убитых полицаев давно превысило действительную численность гарнизона, число это все росло и грозило к обеду перевалить за границу вероятного.) Каждый по-разному представлял себе ход боя и запомнил его по-разному, но запомнил навсегда. Кое-кто до конца жизни сохранит на теле шрамы, физические памятки этого боя. Другие отметины оставит он в душе: шестьдесят минут, слившиеся в одну вспышку громадного духовного напряжения, не могут исчезнуть бесследно.
Агентурная разведка донесла из Пропойска, что недобитые полицаи бежали из села, услышав адский шум врывавшихся в Ржавку «партизанских танков»: «секретное оружие» партизан — мотор отрядной трехтонки — полностью оправдало себя. Порадовала хорошая весть: среди гражданского населения в Ржавке жертв нет. Из тех же источников стало известно, что пленные разведчики, доставленные в Пропойск немцами еще вечером в крытом грузовике, брошены в тюрьму СД. Гришка-полицай, наш агент, сообщил, что Боровик держится молодцом. Полицаи прозвали его
«хачинским волчонком». Начальник полиции Пропойска будто бы даже сказал: «Какие же у них тогда матерые волки!» Допрашивал их самолично новый комендант Пропойска. Начал он с конфет, называл Боровика и Милку «Гансом и Гретель», а кончил пытками. Но партизанская «Гретель» испугалась пыток и выболтала все, что знала. Комендант, очень довольный, сразу же стал звонить по телефону в Могилев и Быхов.
Милку я хорошо помнил: не по летам грудастая, краснощекая матрешка, голубоглазая хохотунья с кудряшками. Была она прилежной санитаркой, но чуть в обморок не падала, когда ей давали стирать кровавые бинты. И эту девчонку Самсонов с Ивановым послали в разведку!
Вечером лагерь, как всегда после крупной отрядной операции, был многолюден. Только что после общего «подъема» закончился поздний обед. Вокруг штабного шалаша толпились вояки, о командирском звании которых красноречиво говорили пистолетные кобуры, планшетки и замысловатые партизанские сбруи. Я поздоровался с Аксенычем, Дзюбой, богомазовцем Костей-одесситом. Командиры курили, переминались с ноги на ногу, поглядывали на затянутый немецкой пятнистой плащ-палаткой вход в командирский шалаш. Тут же крутился и болтал без умолку, поблескивая выпуклыми наглыми глазами, командир разведки Иванов. Одет он сравнительно скромно: светло-голубой френч, клетчатые брюки гольф, фетровая шляпа с перышком оливкового цвета, ярко-желтая кобура, нацепленная для форса по-немецки, на левом боку, на правом — крошечный «бэби-браунинг» — у Самсонова выпросил. Буйно разросшиеся рыжие бакенбарды придавали ему невыразимо нелепый вид. Но ему и невдомек, что вид его смешон и жалок. Принимая картинные позы, со всегдашними нелепыми своими ужимками, чистя ножичком ногти, чтобы показать всем унизанные трофейными кольцами и перстнями пальцы, этот ловкач и пустозвон хвастался:
— Я глаза ваши и уши. Да кабы не мои разведчики, мы бы не отделались вчера такими легкими потерями. Я и на фронте, еще лейтенантом, разведкой заворачивал. Я, конечно, не Иванов, сами знаете — конспирация, нельзя нам фамилию настоящую носить. В немецкий тыл, это самое, дурака не пошлют. Впрочем, и это бывает — Козлов у меня того-этого... — Он покрутил указательным пальцем у виска. — Но это уж здесь, в тылу, на нервной почве. А «музыкант» мой, Ванюшка,— радист, первого класса! Вон он на ключе выстукивает! Рация-то не чья-нибудь, моя. Жорка-капитан небось без рации прилетел. Что бы вы тут без меня делали? Без связи с Большой землей? Тс-с-с! Слышите, как капитан Токарева честит?
Постоянно вздоря полегоньку да потихоньку с Самсоновым, Иванов заметно подражает ему во всем те же манеры и замашки. Не всякий начальник обрадуется таким подражателям. Рядом с этими гротескными карикатурами начальник и сам становится понятней, прозрачней.
Из штабного шалаша доносился голос Самсонова.
— Согласно уставу,— цедил он с ледяным презрением,— самовольное оставление поля боя равносильно измене и мечет за собой высшую меру наказания... Но вы еще можете пригодиться мне как радист. Я разжалую вас в рядовые... 11омните — самоотверженность и еще раз самоотверженность. Как вы стоите перед командиром? Смирно! Можете идти. Поворачиваться, поворачиваться не умеете!
Токарев вышел из штабного шалаша сгорбившись, морщась, точно от зубной боли, с плывущими по широкому лицу красными пятнами. Он остановился, обвел всех невидящим взглядом, глубоко вздохнул и поплелся за шалаши.
Падение Токарева было неожиданностью для всех. Этот добродушный богатырь в генеральском мундире оказался трусом особого сорта, расчетливым, хладнокровным трусом, совсем не похожим на того потерявшего голову бойца, который плакал в истерике и панике у ржавской школы. Теперь мне казалось, что я и раньше, чуть не с самого начала, чувствовал какую-то фальшь в его стремлении казаться рубахой-парнем.
— Погорел Великий Комбинатор! — пояснил для всеобщего сведения Иванов. — В Ржавке полные штаны набрал. Вчера нарочно отстал от штурмового отряда. Весь бой прятался где-то. В рядовые его теперь. А мало!
Странно слышать такое от Иванова. Во всем отряде лишь один человек не признавал, что Иванов трус — сам Иванов. Глядя на него, я думал об Алесе — девушке из Ветринки. Неужели этот хлыщ добился своего?
— Скажи на милость! — удивлялись партизаны, глядя вслед Токареву. — А с виду богатырь, монумент, и на язык такой бойкий!
— Небось от Церковного Осовца отвертелся, сачок!