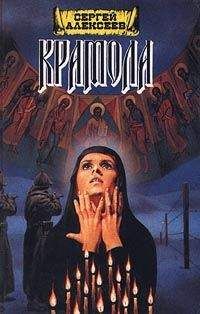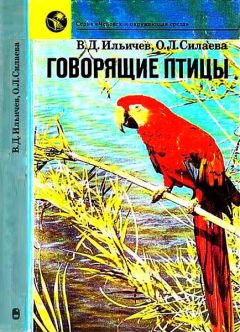— Дак чего делать-то? На себе ее, что ли, переть? И так наломались!
— Давай покурим, может, бросит, отойдет…
Они сели в снег, свернули самокрутки, с удовольствием закурили. Собака чуть успокоилась и вылизывала теперь тоненькое горлышко человека. Кожа на глазах розовела, наливалась кровью и оживала. Наконец светлый клубок, висящий над человеком, опустился вниз и вошел в тело. И оно дрогнуло, движения стали осмысленными. Поднялись безвольные руки.
— Собака-собака, — проговорил человек. — К добру ль ты мне снишься или к худу?
Сенбернар заскулил от голоса, обрадовался. Мать Мелитина села, огляделась, однако собака приподнялась и обняла лапами за шею, чуть не уронив обратно в снег.
— Ты же, батюшка, тяжелый, не дави меня, — пожаловалась она. — Дай вздохнуть-то…
Стрелки курили, щурились на солнце. Винтовки держали на коленях, ждали момента. Рассиживаться долго на морозе было ни к чему: вспотевшие спины пробирал холодок. Мать Мелитина поглядела на них из-под собачьей лапы, прижалась к горячей, мягкой груди, втягивая целительное тепло.
— Батюшка, защитник мой, да тебя Господь послал, — пробормотала она, обнимая собаку. — А горячий-то… Не заболел ли?
Сенбернар не понимал, что с ним происходит. Снег под лапами уже протаял до земли…
Андрея арестовали далеко от дома, на омском вокзале: хотел еще дальше уйти — не поспел. Взяли его как бродягу-странника, не имеющего документов и места жительства, препроводили в милицию и посадили в камеру к таким же грязным, заросшим людям в рванье. Ожидая разбирательства, он сидел под сырой стеной и откровенно разглядывал пестрое население камеры. Глаз цеплялся за спрятанные под бородами и бровями лица в лишаях и струпьях, за руки в красных экземных пятнах, за остатки крестьянской и городской одежды. Народ сидел угрюмо, самоуглубленно, и Андрею вдруг подумалось: сколько же таких, как он, ряженых, поневоле блаженных среди этих людей? Сколько судеб сейчас решится, сколько жизней потечет вспять!
И еще подумал, что тут, в камере, наверняка есть «подсадная утка», потому и молчит знающий, бывалый народ. Скажи лишнее слово, и вместо положенных три года десять намотают, а то и больше. Молодой парнишка в женском жакете и кепке с «нахлебником», по виду вор, но сельского рода, перехватил взгляд Андрея, выпучил брезгливые глаза, подмигнул:
— Чего пялишь зенки? Эй, мужик?
Андрей промолчал и отвел взгляд. Парнишка не унимался, откровенно тоскуя.
— Хочешь, песенку спою? Про вашу жизнь?
И, не дождавшись ответа, вынул спичечный коробок, приладил спичку и, отщелкивая ритм, запел:
На деревне расставания поют,
Провожают председателя в нарсуд,
Всей деревней насушили сухарей,
Возвращайся, председатель, поскорей,
Возвращайся поскорей…
— Заткнись, — посоветовал человек с завязанным грязной тряпкой глазом. — Без тебя тошно…
Парень лишь рассмеялся и добавил горечи в голос.
Ты скажи нам, через сколько тебя ждать.
Интересно, где ты будешь отбывать.
Отвечает председатель им в ответ:
Ждать меня придется, девки, десять лет,
Ждать придется десять лет…
Одноглазый человек молча придвинулся к песеннику и ударил в лицо. Кровь брызнула из разбитого носа, окропила руки и колени. Парень медленно утерся рукавом, но стерпел, лишь глаза чуть сузились и вновь распахнулись.
— Ну хочешь, про твою жизнь спою? — предложил он с прежней веселостью. — Я всякие песни знаю.
В камере притихли, перестали дышать. Одноглазый, похоже, что-то означал тут для всех.
Парнишка отщелкал на коробке бодрый ритм.
Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская,
А мой дедушка Калинин Михаил.
Мы жили весело в Москве на Красной площади,
И дядя Троцкий к нам в гости приходил!
Одноглазый навис над поющим, схватил его за подбородок, сдавил щеки пятерней.
— Не смей, скотина! Вождя пачкать не позволю!
Андрей отбросил руки одноглазого, встал к нему спиной.
— Пой, парень, пой! Ну?
Парнишка плакал, размазывая кровь и слезы. Андрей обернулся к обидчику, дохнул в лицо:
— За что?
Одноглазый разглядел шрам, прикрытый бородой, чуть спустил пар.
— Душа моя болит…
— А ты не слушай, — посоветовал Андрей. — Не для тебя поют. Уши заткни.
Он огляделся. Должен быть подсадной, и, возможно, не один…
— Я — большевик! — заявил одноглазый. — Я старый партиец и не позволю бесчестить имя вождя пролетариата!
— Андрей рассмеялся ему в лицо:
— Слава те Господи! Настал светлый час! Ворон ворону глаза выклевывает! Пой, парень, не бойся. Веселись, народ!
Но в камере сделалось еще тише. Люди смотрели на одноглазого партийца и ждали развязки. Даже оказавшись в одной камере, они боялись его. Парнишка-певец, запрокинув голову, унимал кровь.
— Не связывайся, — бубняще произнес он, зажимая нос. — Он еще при царе в тюрьмах сидел. Ему привычно жить под замком. Нам тоскливо…
— Да, сидел в тюрьмах! — забуянил одноглазый. — Свободу вам завоевывал, когда вы барам пятки лизали!
— Ну, завоевал свободу? — снова засмеялся Андрей. — Вижу, всем завоевал: и нам, и себе!
Люди отворачивались, не хотели слушать. Старый партиец неожиданно ушел к двери, уткнулся в запертую кормушку и заплакал, не стесняясь слез.
— Выпустите меня, — слабо и исступленно просил он. — Выпустите меня, выпустите…
Парнишка унял кровь, вытер лицо внутренней стороной кепки и повеселел.
— Ну? — спросил он, обращаясь к Андрею. — Какую тебе песню спеть? Какая песня под твою жизнь подходит?
Андрей не отвечал. Он боялся теперь каждым лишним словом испортить впечатление о себе, которое должен был получить «подсадной» о безымянном бродяге со шрамом на лице. Пусть его примут за кого угодно — за бывшего колчаковца, монархиста, скрывающегося эсера или рядового врага народа. Только чтобы перевели из милиции в ОГПУ и вызвали на допрос. Он так давно и так часто вспоминал жизнь брата Александра, так подолгу твердил его слова, что начинал забывать свою жизнь и отвыкать от своего имени. Он и думать начинал о себе, как бы Саша думал о нем. И видел себя как бы со стороны глазами брата.
Происходило чудо: воскресал покойный инок Александр, возрождалась его близкая, но так и не познанная душа.
И предстояло еще встать на ноги и сделать первый шаг по ее неисповедимому пути…
Давно ушла в Повой монастырская стена, река выедала теперь двор, заглатывая келейный корпус и мелкие хозяйственные постройки. Пройти вдоль берега уже было невозможно из-за нависшей торцевой стены, а на воротах висели замок и свинцовая пломба, снять которую Деревнин не смел. Поэтому, чтобы заглянуть в монастырь и посмотреть, что там творится, приходилось брать лодку и выплывать на середину реки, а еще лучше — на другую сторону. Деревнин выплывал с удочками или приставал к противоположному берегу, со страхом глядя на обнаженный двор обители, словно разрезанный ножом. До храма еще было далековато, но некоторые бараки уже нависали над обрывом и конюшня на хозяйственном дворе приближалась с неумолимой скоростью.
Рыба напротив монастыря клевала хорошо, поплавки прыгали на воде, но ничуть не волновали рыбака.
Деревнин постоянно ощущал какое-то двойственное чувство. Иногда казалось, что приближение к обрыву конюшни ничем ему лично не грозит и грозить не может.
Однако чаще всего Деревнина охватывала тревога, причем неясная, недоступная разуму. Ему будто бы не хотелось, чтоб земля показывала, что в ней есть, не хотелось, чтоб открывались ямы, а с ними и тайны, столько лет хранимые монастырем. Деревнин чувствовал, что случись обвал, и в окружающем его мире, в нем самом что-то порвется или засветится, как фотопленка, оказавшаяся на свету. Скорее всего, и тревожился Деревнин, боясь засветиться.
Когда же, наконец, рухнули кельи, вздыбив в небо тучу красной пыли, и; накренившись, сполз в воду, словно лодка, один из крайних бараков, Деревнин не выдержал и, ощущая внутреннюю зыбь, отправился в горком партии. В милицию идти не было смысла: что они могли там? Пьяного в вытрезвитель отправить, ну, драку разогнать, хулиганов определить на пятнадцать суток. Милиция совсем не та стала, никто ее не боится, да и с кем говорить? Старые сотрудники поушли на пенсию, остался молодняк наподобие капитана Березина. Шесть лет Березин ходил по инстанциям, все добивался, чтоб монастырь сохранить и берег укрепить, куда только писем не писал, а что толку? Видно, чтобы не надоедал капитан, не мельтешил перед глазами, отправили его учиться в академию на два года. Он довольнехонек, собрался и уехал — оставайся тут лавка с товаром. Как ни рассуждал про себя Деревнин, выходило, что нынче власти нет ни у горисполкома, ни у милиции, ни у горкома Партии. Чингиз всему голова.
Однако к Чингизу Деревнин не пошел: когда у одного человека столько власти, решить с ним вопрос невозможно, тем более такой серьезный вопрос. Чингиз уже ничего не понимал в жизни и не замечал ее. Он знал лишь политику, как добыть больше нефти и газа, и никакая другая политика для него просто не существовала. Поэтому Деревнин, поразмыслив, отправился к первому секретарю горкома Кирюку.