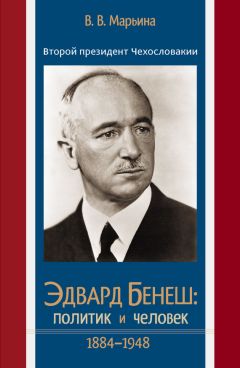— Пришла наконец, где пропадала-то? — вполголоса упрекнула она Гану, неуверенно поглядывая на мужа. Она побаивалась, что он в сердцах накричит на дочь за опоздание, а на лейтенанта Мезуну это произведет неприятное впечатление.
Но вспотевший, разгоряченный, слегка подвыпивший отец был настроен весьма мирно.
— Не поздновато ли домой явилась? — заметил он и налил Гане половину бокала. — Ну-ка, выпей за здоровье наших обрученных! Пан лейтенант Мезуна только что просил руки Бетуши! За ваше здоровье, дети, за ваше здоровье, будьте счастливы! Маменька, брось тряпку и поцелуй меня, помнишь, как я к тебе сватался? Тогда без ликеров обходились, просто всухую, все было скромнее, чем теперь, но и так сходило, ничего не попишешь, времена меняются, и мы тоже, не правда ли, Мезуна?
Маленькими глазками Ваха посмотрел на Гану и с глуповато-шутливым выражением покачал головой, полысевшей за последние годы, что особенно было заметно сейчас, когда пряди волос, зачесанные на лысину от уха до уха, растрепались.
— Не унывай, Ганка, радуйся тому, что тебя ждет. Бетуша нашла свое счастье сегодня, а ты найдешь завтра, из-за этого голову не вешай! Такую девушку из хорошей семьи, дочь будущего председателя областного суда, каждый с руками оторвет! Наливайте себе, Мезуна, набирайтесь сил, они вам понадобятся в бою против пруссаков — чем сильнее будете, тем скорее поколотите их и тем скорее наша Бетуша станет пани лейтенантшей Мезуновой! Дочь председателя областного суда станет пани лейтенант-шей — не ахти какая удача, Мезуна и сам должен признать, но я рассуждаю не так, я человек не мелочный, коли любите друг друга, женитесь с богом, все еще впереди, глядишь, Мезуна дотянет, скажем, до генерала, а то и до фельдмаршала, — разве я не прав, ха-ха-ха! Главное — усердие и аккуратность на службе, — начальство почитай, держи язык за зубами и не запускай дел, запомни это, Мезуна! А есть ли в армии запущенные дела? Как же иначе, ведь и в армии есть канцелярии, а где канцелярии, там и запущенные дела, разве я не прав, ха-ха-ха!
Хотя упоенная неожиданным счастьем Бетуша думала о своем, она сразу заметила, как печальна и удручена Гана. Решив, что сестра завидует ей, Бетуша, добрая душа, не рассердилась, считая это вполне естественным и потому простительным.
— Не принимай близко к сердцу, что Тонграц не появляется, — сказала она Гане вечером, когда они уже были в постели. — Я попрошу Карлика пристыдить его и спросить, любит ли он тебя по-прежнему.
Но Гана только яростно и зло прошипела в ответ:
— Замолчи, ради бога, замолчи и заботься лучше о себе.
А среди ночи, когда Бетуша очнулась от прекрасного сновидения — ей снилось, что она наматывает пряжу с мотка, который держал ее добрый, любимый Карлик, — ей почудились слабые всхлипывания, приглушенные одеялом.
— Гана, ты плачешь? — спросила она.
Но Гана молчала. И опять все затихло.
Назавтра, когда вещи были уложены, сундуки заколочены и в петли плетеных Корзин продеты железные прутья, Мезуна пришел попрощаться со своей нареченной. При первой возможности, как только маменька вышла из комнаты, оставив его в обществе дочерей, он рассказал Гане, что Тонграц вне себя от отчаяния, помышляет о самоубийстве и умоляет Гану не сердиться.
— Пожалуйста, передайте, что я не сержусь, — сказала Гана. — Я буду ждать его три года.
11
В Хрудиме пан доктор, прав Моймир Ваха поселился с семьей в четырехкомнатной квартире на главной площади, неподалеку от храма Успения пресвятой богородицы — в ту пору он как раз перестраивался. Квартира была дорогая, но, по словам Вахи, коли человек занимает определенное положение, приходится думать и о репрезентации. Скоро, очень скоро новое местожительство семьи Вахов как две капли воды стало походить на прежнее. Хрудимская квартира, как и градецкая, пропиталась неистребимым слабым запахом папенькиных виржинок и сигар, в темной прихожей так же, как в Градце, тускло мерцал неугасимый старый засаленный фонарь, в кухне появились ведра, подставка для гладильной доски и корыто; мебель в столовой и в кабинете отца была расставлена точь-в-точь как в Градце, те же картины и фотографии водворились на стенах, те же ковры с теми же пятнами и потертыми местами украсили полы. Комната девушек была значительно больше, чем в старой квартире, но Гана и Бетуша через два-три дня так привыкли к этому, что перестали ощущать разницу, и по вечерам им казалось странным, что не звучит торжественный грохот градецких барабанов.
А папенька, заняв место председателя суда доктора Томаша Мюнцера, с демонстративным возмущением принялся приводить в порядок запущенные им дела.
— Запущенных дел пропасть! — говорил он дома. — Оставил после себя свинюшник, прости меня господи! И такой человек пролез в председатели областного суда! Нет на свете справедливости, разве что божья.
Проявлением божьей справедливости была, конечно, тяжелая болезнь почек и желчного пузыря у Мюнцера — заслуженное возмездие, постигшее человека, который посмел запустить дела.
Однажды, в середине июня, Бетуша получила из Градца Кралове письмецо, в котором лейтенант Мезуна сообщал, что, испросив у своего командира разрешение отлучиться из крепости, он позволит себе — Мезуна так и написал — свою дорогую нареченную на следующей неделе, семнадцатого дня сего месяца, в Хрудиме навестить, и уважаемым родителям, как и чтимой сестре ее, нижайший поклон отвесить, и в семье невесты несколько драгоценных минут провести, что в это страшное время, когда война вот-вот разразится, для него особливо сладостно.
Письмецо прочли, обсудили, взвесили, снова прочли от начала до конца и признали превосходным.
— Всего-навсего лейтенант, но приличия знает, — ввернул отец.
— С воскресным обедом, Эльза, нам надо бы не ударить лицом в грязь, — сказала маменька своей молоденькой служанке, немке с гор. — У нас будет гость.
— У нас будут два гостя, — заметил как бы между прочим папенька, просматривая газету.
— Как так? Вроде один, — удивилась маменька. — Я сказал — два гостя, — повторил отец.
— А кто же второй?
— Я сказал, что будут два гостя, и остальное тебя не касается, — отрезал папенька и многозначительно, с лукавой улыбкой взглянул на Гану, сильно этим встревожив ее. Девушку охватило предчувствие чего-то недоброго, и она не ошиблась.
Однако слова доктора прав Вахи, произнесенные со всем авторитетом мужа и владыки, не оправдались: не два, а только один гость явился к семейному столу. Испросив отпуск на воскресенье, 17 июня, лейтенант Мезуна и не подозревал, что в книге судеб этой дате суждено стать исторической, а именно: в этот день император Франц-Иосиф приказал объявить во всех австрийских землях свой знаменитый манифест, в котором возвестил народам, что долг императора повелевает ему призвать свои войска к оружию, ибо война стала неизбежной; нечего и говорить, что при таких необычных обстоятельствах Мезуне пришлось отказаться от свидания со своей ненаглядной невестой и остаться в полку. Зато гость, приглашенный хозяином дома, явился к Вахам с последним ударом часов, пробивших полдень. Это был пунктуальный молодой человек, во всем знающий меру, образец аккуратности и благонадежности, мелкий чиновник областного суда по имени Фердинанд Йозек.
Его серьезное, худощавое лица с жирной угреватой кожей, какая бывает у ревностных чиновников, впалая грудь и узкие мальчишеские плечи свидетельствовали о том, что движению на свежем воздухе он предпочитает упорный труд за письменным столом; и хотя под глазами у него уже появились темные круги и мешки — явный результат плохого питания или скверного пищеварения, — на подбородке и под печально повисшим носом с красными ноздрями пробивалась все еще скудная, бесцветная, кучерявая растительность. Отправляясь с визитом к своему патрону и явно желая блеснуть, он оделся с особой тщательностью. На сильно напомаженных волосах, со старательно зачесанным хохолком, называемым какаду, сидел набекрень цилиндр, маловатый, но тщательно вычищенный. Желто-палевое пальто удачно дополняли перчатки лимонного цвета, а когда он снял их, оказалось, что его костлявые пальцы унизаны множеством перстней: на безымянном и среднем пальцах левой руки — два, на мизинце — один, зато броский, с разноцветными каменьями, в форме четырехлистника. На узле пурпурного галстука, под твердым стоячим воротничком, сверкало стеклянное зеленое украшение, так называемый «кошачий глаз».
Пестрый элегантный наряд гостя расцветился еще больше, когда он с дружеской помощью хозяина скинул в прихожей пальто. Из нагрудного кармана зеленой визитки, оттеняемой белым жилетом, торчал кончик цветастого кружевного платочка, узорчатая рубашка была украшена рисунками из области коневодства: шпорами, хлыстами, подковами и седлами. Черно-белые клетчатые брюки, дополнявшие его туалет, уже давно вышли из моды, зато лакированные туфли, отделанные голубым сукном dernier cri[12] как будто только что прибыли из Парижа. Вопреки пестрой, как у попугая, расцветке туалета, пан Фердинанд Йозек оказался весьма серьезным, скорее жалким, чем фатоватым, потому что костюм сидел на нем скверно, в одном месте был узок, в другом — висел мешком, и главным образом из-за худощавого лоснящегося лица.