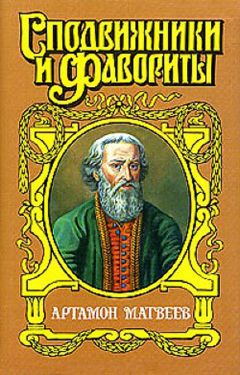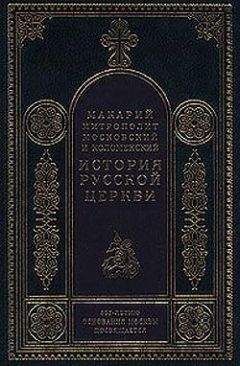— Полянскому скажу, Даниле Леонтьевичу.
— Вот хорошо! — обрадовался царь. — Данила Леонтьевич человек дельный. Ну да поможет тебе Господь Бог! Я, Дементий, в большом гневе из-за сих подмётных писаний.
Московский сыск копает уж так глубоко, что в земле дыры от его усердия. Приезжал Дементий в Новодевичий монастырь, монахинь расспрашивал, слуг домны, повидался и с самой Стефанидой. Впрочем, ни единым нескромным вопросом не потревожил её сиятельство. Спрашивал именем великого государя о здравии, нет ли каких челобитий, лепо ли житье, не теснят ли.
А сам глазами по лицу, как по сундукам, и в глаза, в глаза, ища в них донышка.
Домна Стефанида отвечала коротко. Мол, Бог здоровье даёт. Челобитий писать причины нет. Житье монастырское строгое, но матушки к ней, чужестранке, милостивы, жалеют.
Дементий и сам видел: письма-подкидыши происхождения не здешнего. Прощаясь, поднёс домне подарок от царевны Татьяны Михайловны — атлас и камку. Ахнуло у домны сердце: судьба её решена, не быть ей русскою царицей.
Грехи тяжкие, призадумывалась, примеривалась к высокому месту, слова русские схватывала на лету, запоминала. К монашенкам приглядывалась, училась быть русской.
Когда Дементий ушёл, домна Стефанида кинулась перед иконами на колени, а в голове ни единой молитвы. На Спаса смотрела. В золотые глаза, в зияющую бездну зрачков. Такие же зрачки были и у этого царского человека... Такие же, да не такие. Царский слуга не словами — очами её распытывал, а Господь Бог не спрашивает, зовёт к Себе, в Вечность.
— О, Иисусе Христе! Неужто кончилась моя жизнь? Я с господарем моим всё ждала, ждала истинной жизни, а её всё не было, и нет, и не будет.
Не ведая, куда бы спрятаться от себя, кликнула служанок, оделась, вышла в сад. Россия страна холодная, но — весна и здесь весна. В зелёной траве — золотые цветы. Над цветами бабочка. Бархатная боярышня, с синими глазами на крыльях. Бабочка садилась на золотые венчики, раскрывала крылья, замирала, показывая свою красоту. Вдруг замелькал там и сям мотылёк. Должно быть, только что родился.
«Его жизнь — день, — подумала домна Стефанида, — и для него это вечность, для него это долгая радость. Ему повезло: он явился в солнечный день, солнце в России показывается по праздникам...»
— Буду как мотылёк, — сказала домна Стефанида вслух. — Буду как мотылёк...
За неделю до дня рождения царевича Фёдора Алексей Михайлович заказал иконописцу Зубову образ святителя Феодора — Божий дар.
Фёдор Евтихиев Зубов, родом пермяк, был в Оружейной палате вторым мастером после Симона Ушакова. Жалованья Симон получал 67 рублёв, да за дворцов корм[4] и питье 50, да кормовых ржи и овса — 52 четверти. Оклад Фёдора Зубова был много меньше: 18 рублёв, подённого корму по 2 алтына на день, всего в год 39 рублей 30 алтын да 40 четвертей ржи и овса.
Остальным мастерам платили по 12 рублёв, с дворцовым прокормом по 33 и хлеба да овса по 30 четвертей.
Дети крестьянина Малаха, прижившиеся в Оружейной палате, получали как мастера третьей статьи.
Образ Феодора Сикеота Зубов доверил писать Егору, сам спешил исполнить заказ ярославского купца Ивана Скрипина. Передача заказа — дело обычное, когда икона будет почти закончена, мастер пройдётся по ней вдохновенною рукою и подпишет.
Работал Егор с трепетом душевным, не простой заказ! Нужно было написать и святителя, и Духа Святого в виде голубя, а главное — в семи лучах семь даров. Всякая вещь в свету — иная, и цветом, и истечением флюидов. А времени на прозрения да раздумья не дадено.
Царские заказы всякий раз суматошные, грозные: «Писать в день и в ночь, наскоро». Бывало, за неделю приходилось поставлять по семнадцати, по двадцати и по тридцати больших икон. Всей артелью наваливались: и Симон Ушаков писал, и Фёдор Зубов, Тимошка Чёрт, Иван Леонтьев, Степан Резанец — все двадцать три живописца Оружейной палаты.
Место Егора было рядом с Зубовым. Видел, как тот работает. Пророк Илия сиял у мастера золотом. Золотая парчовая риза, золотой лик, золотой нимб. Яблоко, которое приносил чёрный ворон, тоже было золотое. Вокруг Илии голубовато-зелёная пещера, утопающая в зелени деревьев, выше — зелёные горы. У ног пророка золотистые цветы, справа, среди зелени, крошечная совсем сцена: Илия-пророк ведёт Елисея на гору, в левом верхнем углу — огненное восхождение Илии. Пророк в пламенах, бросает вниз Елисею свой плащ — передаёт дар пророчества.
Егор писал то, что ему велено было, но думал, как он подступился бы к образу пророка Илии. Гудящий вихрь огня — вот что нужно написать, чтоб пришедший помолиться услышал этот гуд. И чтоб кони-то летели, спицы в колёсах без промельков, и земля чтоб аж вытягивалась вслед за пророком, за огненным вихрем.
— Егор!
Вздрогнул.
— Размечтался... Готово у тебя, что ли?
— Пожалуй что готово.
Зубов перед иконой позадержался, щурил левый глаз, смотрел в кулак.
— Наш брат, старичье, отойдёт в мир иной — будешь первым в палате... Лик я по-своему высвечу, серебра в волосы прибавлю, больше ничего трогать не буду. Грех. — Троекратно поцеловал молодого мастера. — Ты к отцу собирался, ступай к Богдану Матвеевичу, просись. Я — отпускаю. Да смотри дело какое-нибудь придумай.
— Дело есть. Монастырские просят «Страшный Суд» в храме обновить, чтоб смутьянов вразумляло.
— О смутьянах нынче на всех базарах шепчутся. Про Стеньку слышал?
— Слышал.
— Прямо ведь беда... Вот что, идём вместе, я лучше тебя скажу.
Забота самого Фёдора Евтихиева Егора радовала: понравилась икона. И заступничество будет кстати: просьбу большого мастера Богдан Матвеевич уважит, а Егор истосковался по дому, по Рыженькой. Да ведь и батюшка-то совсем старик, весело улетали из родного гнезда, не понимали: жить на отцовских глазах только дураку не мило. В глазах отца Бог.
Хитрово выслушал Фёдора благосклонно, на Егора смотрел приветливо, сказал:
— Ты, Фёдор, ступай. Трудись. За хлопоты благодарю. Я Егорушку отпускаю — на доброе дело просят у нас мастера... Но сначала сослужи-ка мне малую службу, — призадумался, поджидая, пока Зубов уйдёт. — Отвези икону Артамону Сергеевичу Матвееву. Какую — это мы сейчас подумаем с тобой. Сие будет в дар. Твой. Московские люди любят Артамона Сергеевича. Тебе его дружба тоже пойдёт на пользу. Матвеев с царём взрастал.
Удивление на лице Егора было такое искреннее, что Хитрово улыбнулся:
— Я почему тебя посылаю. Ты — молодой, глаз у тебя хваткий. А у нашего Артамона Сергеевича есть на что посмотреть. Парсуны, севиллы всякие. Да и образа. Ты на образа особо погляди. Они небось у Артамона Сергеевича письма латинского, нарядного. То, что запрещены, — не наше дело. Ты в них доброе ищи, чтоб доброе перенять.
— А какую же икону поднесть? — спросил Егор, немножко испугавшись.
— Артамонова ангела-хранителя. Бери доску добрую, кипарисовую, краски, кисти. Напиши образ преподобного Артемона — и поезжай себе.
— А какого Артемона писать, святителя Солунского или святителя Селевкийского? Али священномученика, пресвитера Лаодикийского?
— Пиши пресвитера. Чего его святителем-то баловать.
— С житием писать?
— С житием. Пока Артамон Сергеевич будет клеймы разглядывать, и ты поглядишь, какие иконы у нашего зело учёного друга.
Нехорошая тоска посасывала сердце, но Богдану Матвеевичу не поперечишь.
Пошёл Егор в Успенский собор, помолился перед святой иконой Владимирской Божией Матери и — за дело. Получил кипарисовую доску, краски, хорьковые кисти, сел житие читать.
Преподобный Артемон родился в Сирии, в Лаодикии, в доме благочестивых христиан. В шестнадцать лет был поставлен чтецом. В сим звании трудился двенадцать годиков. Вот и тема для верхнего клейма: «Чтец Святого писания».
Святитель Сисиний поставил Артемона во диаконы. Бог дал двадцать восемь лет диаконства. Сё тема второго клейма. Артемон поёт с прихожанами «Верую». Третье клеймо — служба во пресвитерах. Егор посчитал: рукоположили Артемона пятидесяти шести лет от роду. В сане был тридцать три года... Значит, надо писать в клейме старца, убелённого сединами, с длинными власами, с бородой до пояса. Пусть это будет крещение Артемоном язычников — главное его деяние. В четвёртом клейме Сисиний и Артемон разбивают в капище Артемиды статуи римских богов и богинь. Император Диоклетиан издал указ о поклонении идолам, в Лаодикию послал наблюдать за исполнением указа Патрикия. Пятое клеймо: избавление Патрикия от смертельной болезни по молитве епископа Сисиния. Шестое — Патрикий встречает на дороге старца, за которым попарно шествуют шесть диких ослов и два оленя. Старец — Артемон. Седьмое клеймо: олень, получивший дар слова, рассказывает Сисинию об аресте преподобного Артемона. Восьмое: Артемон изгоняет змей из капища Асклепия. Жрецы принуждали преподобного поклониться идолам, бросили к змеям, а змеи на них пошли. Жрецы бегут, змеи ползут, но Артемон убивает их взглядом. В девятом клейме: говорящий олень предрекает скорую смерть Патрикию. Огромный котёл с кипящей смолой. Палачи собираются кинуть в котёл преподобного. В десятом — Артемон жив и здоров, а в котёл орлы бросают Патрикия.