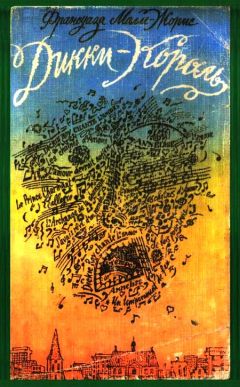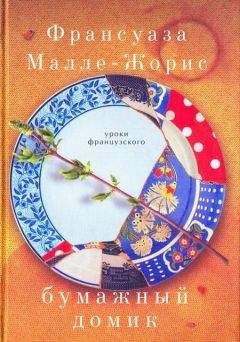Она мучит, разрушает себя. Ей кажется, что все грехи, о которых она сказала вслух, тяжким грузом легли на нее, прижимают к земле, душа ее больше не взлетит. Но напрасно она заходит столь далеко в своих признаниях, в своем самоотречении, начиная уже извлекать из этого наслаждение: благодать всегда пребывает с нею (хоть и горькая), а глаза Анны бесстыдны, жадны… Однажды вечером в переходе Анна выбежала из-за поворота, бросилась к ее ногам и стала целовать край ее платья. Обдуманный поступок, испытание огнем, Мари отступает, взволнованная.
— Этот ребенок — сущий дьявол!
Она освобождается, убегает. Анна торжествует, а потом пускает слезу. Не потребовала ли она для себя небеса в надежде увидеть ангела? В конце концов она только девочка. На следующее утро прекрасной и благородной сестры здесь больше нет. Она попросила перевести ее в другой монастырь и, пока все уладится, отдыхает у родителей.
— Я больше ее не увижу?
— Какая разница, дитя мое? Не надо ни к кому привязываться…
Кто погиб в этот день: Анна или Мари де ля Круа?
Это не помешало тому, что очень скоро Анна попросила приискать ей место. Она просила поместить ее в городе, как и других. Служанкой или нянькой, как угодно…
— …Как и других.
— Но мы надеялись, дитя мое…
Удивление, не больше.
— Я недостойна, мать моя.
Театр, как всегда. Но ведь это неправда, будто она чувствует себя недостойной чего-либо.
— Возможно, я и вернусь.
Она оставляет себе эту возможность, эту надежду. Все девочки, даже самые испорченные, любят сказки со счастливым концом, апофеозы, театральные машины, возносящие к небесам торжествующего героя или героиню. Она вернется, возвеличенная чем-нибудь, сопровождаемая восхищенным шепотом, она воплотится в прекрасном образе, от которого отказалась Мари. Вынуждена была отказаться. Потому что Мари не была святой. Она была слишком скромной, но недостаточно смиренной. Образ притягательный, таинственный. Не знаю, что с ней случилось. Она была из тех высоких душ, набожность которых слишком утонченна для эпох, когда вера была чересчур крепким эликсиром, который нужно было уметь переварить. Можно ли погубить себя избытком утонченности? Надо полагать, что да. Не является ли вера чувством слишком личным, слишком особенным, чтобы отказаться превратить себя в образ, идола? Контраст между мрамором поклонения, который их заключает, и живой душой — одна из форм мученичества святых. Мари отступила. Она обманула остальных своей великой сценой в финале, своим триумфом в театральных одеждах, своими назиданиями. Никто не будет на нее сердиться. Но, быть может, какие-то души нуждаются в подобных сценах, чтобы вознестись в царство духа? Таким образом, можно объяснить преувеличенную жестокость, которая кажется сегодня бесполезной, которая демонстрировалась под барабанный бой и крики ярмарочных зазывал:
— Спешите, спешите все присутствовать при великом подвиге, который мы совершаем во славу Божию! Двадцать дней без пищи! Сорок дней без сна! Спешите видеть аскета, который первым надел власяницу с гвоздями!
Грубо, конечно, очень грубо. И толпы, жадные до зрелища изувеченных, кровоточащих членов, суровых лишений, самоистязаний, испытывают нездоровое любопытство; жестокость обрушивается на удивленную душу, может быть, это и есть путь к грубому и суровому утверждению превосходства духа… Обманутые в своих претензиях, обманутые в своих духовных устремлениях, сестры без сожаления распрощались с Мари. В сущности, она была слишком возвышенна… Одним словом, аристократка.
Что касается Анны, ей нашли «место», раз она просила об этом. Не слишком завидное. Сирота все-таки… Неизвестно, что стало с ее отцом… У женщины, торговавшей по доверенности различными вещами, достаточно зажиточной, бездетной вдовы, Кристианы де ля Шерай. Анну приняли бы в монастырь, если бы она захотела. Приняли бы, конечно, без восторгов, без восхищения, как Мари. Ведь Анна была сиротой, бесприданницей, для нее монастырь — лучшая участь. Защищенность, некое обретенное достоинство. Все преимущества. Любовь, материнство не считаются таким уж благом, ими легко жертвуют. Грубость мужчины, хрупкость ребенка сделали свое дело, и, если попадаются нечестивые монахини, есть много других, которых считают вполне счастливыми (в особенности это относится к девушкам из крестьянских семей), потому что монашество освобождает их от тяжелого труда ценой немногочисленных молитв. Таким образом, если бы Анна избрала путь монахини, ее бы не встречали возгласами: «Аллилуйя». Ее бы хорошо приняли, и все. «Наша лучшая воспитанница». Ничего бы не изменилось, кроме чепца. Но она хотела, чтобы что-то переменилось; ей уже четырнадцать лет. Последовали бесконечные слезы, наполовину искренние.
— Матушка, я не чувствую себя достойной… Самая тяжелая работа мне больше подходит…
Отличный текст, произнесенный с чувством. Настоятельница тронута.
— Я бы хотела остаться здесь… Я так привязана к сестрам… Может быть, позднее…
Сестры довольны. Они жаждут благочестивых волнений после отъезда Мари. Анна делает все, что может, рыдает, обещает искупить грехи отца, замолить свои детские грехи, короче, она уходит. И другие девочки с тремя су в кармане мечтают о музыке и лентах. Уходя, Анна вызывает больший интерес, чем если бы осталась. Итак, она уходит, очень довольная собой, с котомкой в руках.
На одной из улиц предместья прекрасный деревянный дом, в нижнем этаже лавка. Гиацинты на резном балконе второго этажа. Внутри крашеные стены, бархатные занавески; вдова торгует одеждой, мебелью, случайными вещами. Бегают приказчики, полное благополучие, почти богатство. Анна наблюдает за всеобщей активностью, смотрит на прекрасную, смеющуюся женщину, которая, стоя за прилавком, успевает смотреть в зеркало, дотрагиваться до сережек. Неужели это монахини называют «мирской жизнью»? Она входит.
Ее поместят на просторном чердаке, заставленном мебелью, предназначенной на продажу, вполне удобной. Этим же вечером она займет место за большим дубовым столом среди равнодушных к ней людей. Вдова, ее родственник и компаньон Лоран, двое приказчиков и прочие, без примет.
Обычные слова.
— Бери масло; отрежь себе хлеба; налей вина.
Еды ей не пожалели. Не спросили, как зовут. И она вдруг почувствовала, что совершенно ничего не значит. Тут она ощутила боль отца, маленького, бесцветного человека, полного ярости, которого дождь, казалось, смыл с дороги. Так смывают рисунок с аспидной доски, а он сопротивлялся, хотел жить, пусть краткий миг, вспыхнуть ярким, мгновенным огнем, готовый платить за это мгновение кровью.
— Только бы жить! Гореть! — говорит она себе, не зная, что этим ужасным каламбуром предсказывает себе судьбу.
Она презирает Мари, лишь на мгновение унесенную в иные пределы (она никогда не забудет это распростертое тело, эти посиневшие губы, это странное и прекрасное самопогружение), она презирает Мари за то, что та захотела вернуться. «Я, — думает она, — ни за что бы не вернулась». Она в миру не более чем худенькая девочка, грациозная, с острой веснушчатой мордочкой, с длинными бесцветными волосами, с размытой синевой глаз. Ни денег, ни положения, почти без имени, почти без существования. Она умеет читать и писать, вышивать. Такой она предстала перед прекрасной вдовой.
— Ты будешь приводить в порядок вещи в комнате за лавкой.
Слова упали, точно окончательный приговор, с полных уст вдовы. «Всю жизнь?» — думает Анна. И вот она чувствует, что у нее согнулась спина, как у маленьких старушек, которые проводят всю свою жизнь, починяя старые вещи или моя на корточках грязные полы. Они всегда чем-то взволнованы, эти маленькие старушки с пустым взглядом, бормочут что-то непонятное, у некоторых из них были и муж, и дети; все выскользнуло из их скрюченных от работы рук, они пережили мужей, погибших на войне или умерших от истощения, детей унес голод или болезни, или они далеко… И они моют, чинят старье целую вечность, бормоча, бормоча все время, рассказывая что-то, никто их не слушает, они повторяют молитвы, которые все сливаются в длинную колыбельную нищеты. «Нет, я не стану такой», — думает Анна. А чем другим она может стать? Маленькой белой мышкой, попавшейся в мышеловку вместе с множеством других мышей? А вдова красивая, волосы светлые, но не как лен, а как золото, у нее свой дом, свой стол, накрытый для всех, кто ее знает, она может распоряжаться Анной и говорить ей:
— Ты будешь приводить в порядок вещи в комнате за лавкой.
Анна возражает:
— Я бы лучше хотела чинить их у себя в комнате, мадам.
Черные, спокойные глаза становятся насмешливыми.
— Вот как? Почему же?
— Потому что в лавке мне не нравится.
Клиентура, окружающая хозяйку, шепоток по углам, тут назначают свидания, нет ничего хорошего в том, что девочка не догадывается сразу, что тут скрывается смутного и тайного. Что ж, вдова покраснеет? Нет, она смеется.