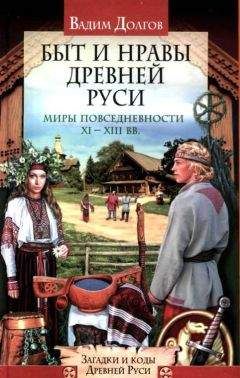1 Слово «жена» в Древней Руси обозначало всякую женщину вообще. Для обозначения супруги использовались слова «подружья» (от слова «подруга») или «водимая» (от слова «водить», т. е. та, которую водят).
Изборник 1076 г. содержит рекомендации по деликатному обращению с рабами и наемниками. Они помещены в числе поучений, касающихся членов семьи, как раз между женой и детьми, что уже само по себе показательно. К рабам нужно относиться по возможности мягко. «Не озълоби раба делаюшта въ истину; ни наимника, делаюшта душея своея». Более того, «раба разоумлива» рекомендуется возлюбить и, парадоксальным образом, не лишить его свободы. По отношению к убогим полагается вести себя корректно: «Душа алчушта не оскорби и не разгневай мужа въ нищете его» (примечательно, что нищий человек назван здесь уважительно «мужем»). Вряд ли, конечно, стоит делать вывод, что к рабам в жизни действительно относились так мягко, как это советует Изборник. Русская Правда показывает, что отношения между холопом и холоповладельцем далеко не всегда были безоблачны. Но сам факт наличия такой рекомендации и помещение статьи о рабах в разделе о семейных отношениях говорят о многом.
Обычная городская семья помещалась в отдельном доме, который ни по внешнему виду, ни по внутренней планировке существенно не отличался от сельского. В домонгольской Руси урбанистическая культура не распространялась еще на формы жилища. Дом был окружен двором, на котором помещались хозяйственные постройки и мастерские, если хозяин занимался ремеслом. Огороженная усадьба в традиционной культуре являла собой замкнутый мирок, за пределами которого пространство было хотя и тоже еще «своим» (своя улица, свой город, своя волость), но уже менее безопасным, содержащим больше возможностей для тайной угрозы.
Для горожанина-ремесленника собственный дом и двор был не только местом жительства, но и местом работы. Регулярные отлучки из дому требовались для того, чтобы выносить изготовленные изделия на продажу, делать закупки на рынке, посещать церковь и коллективные празднества. Кроме того, необходимость покинуть родные стены могла возникнуть, если требовалось участие в политической жизни — на вече или в случае военной опасности — в ополчении. В целом же человек Средневековья и раннего Нового времени проводил дома гораздо больше времени, чем человек современного постиндустриального общества. Хотя следует заметить, что «дома» в данном случае означает не столько в помещении, сколько во дворе, поскольку раннесредневековый небогатый дом, а тем более полуземлянка не имели окон (были только небольшие волоковые оконца, закрываемые в холодное время деревянными дощечками). В таком доме и днем царил полумрак, света было мало. Поэтому даже для сугубо домашних дел, таких как шитье, плетение из лыка или мелкий ремонт домашней утвари, приходилось, очевидно, размещаться (если позволяла погода) на вольном воздухе.
Размер и конструкция дома во многом зависели от социального положения хозяина. Богатый и знатный человек оборудовал дом более вместительный и старался выше поднять кровлю. Поскольку строительство велось почти исключительно из дерева, размер каждого отдельного помещения был ограничен максимальными размерами древесного ствола. Поэтому, для того чтобы построить большой дом, приходилось составлять композицию из нескольких срубов — отсюда название богатого жилища, имеющее форму множественного числа — «хоромы». Престижные хоромы отличались от простого дома наличием особенных элементов конструкции: палат, теремов (высокая постройка обязательно с остроконечной кровлей), сеней, ложниц, медуш (разновидность винного погреба).
В Новгороде была раскопана богатая усадьба, построенная в XII в. и просуществовавшая до 1194 г. Найденные в усадьбе берестяные грамоты и вещевой материал позволили сделать вывод, что принадлежала она зажиточному горожанину — художнику Олисею Петровичу Гречину. Главный жилой дом имел площадь около 63 м2 Кроме того, во дворе располагались хозяйственные постройки и еще два сруба, одни из которых имел площадь не менее 45 м2.
Обычный городской дом мог иметь около 16 м2 площади. Таким образом, видно, что житель древнерусского города жил в достаточно стесненных условиях. Если предположить, что в таком доме могла помещаться семья из мужа, жены и двоих детей, то на человека приходится по 4 м2 — площадь, достаточная, чтобы устроить постель, поставить стол, лавки, быть может, сундук, но не более того.
Объяснять небольшой размер жилищ только особенностями ментальнсти средневекового горожанина вряд ли правильно. Ценностные ориентации проявляются тогда, когда для этого имеются благоприятные условия. Следует различать поведение, обусловленное мировоззрением, и поведение, обусловленное факторами физического и физиологического характера. Если бы теснота не воспринималась как нечто дискомфортное, богатые хоромы не строили бы большими. И хотя, несомненно, средневековый человек гораздо легче современного переносил скученность небольших помещений, главная причина была все-таки чисто технической — большие многокамерные помещения гораздо труднее отапливать. «Привычка к тесноте» была не причиной тесноты, а лишь ее необходимым следствием.
«Суть ли чада, то наказай их, и преклони от уности выя ихъ»: дети, стадии взросления, воспитание.
Рождение ребенка в доиндустриальную эпоху повсеместно рассматривалось как безусловное благо и божественная милость. Русь не была исключением. В то же время отсутствие возможности контролировать рождаемость, частый голод и недостаток материальных средств делали рождение ребенка тяжелым испытанием для семьи простых общинников. Особенно тогда, когда детей становилось много. Недаром и в более поздние времена чрезвычайная многодетность считалась бедствием наряду с бесплодием и наказанием за грехи. Большая часть родившихся детей погибала в младенчестве. И все же, по мнению Райнхарда Зидера, идея Эдварда Шортера о том, что европейские матери в эпоху, предшествующую современности, равнодушно относились к детям и мало о них заботились, слишком поверхностна. Высокая детская смертность и несоблюдение элементарных, с точки зрения современного человека, гигиенических и воспитательных норм в обращении с малышом совсем не означали отсутствия чувства привязанности и родительской любви. «Они только по-другому воспринимались и выражались не интроспективно эмпатией и словом, а символами и ритуальными действиями… чем следовало бы объяснить то, что даже мертворожденных детей отпевали в церкви и хоронили с надлежащими погребальными церемониями и звоном колоколов, идя на значительные затраты». В целом, безусловно, прав В.П. Даркевич, отметивший, что «частые смерти детей притупляли боль утрат, что не исключало тяжелых душевных переживаний». Родители делали для детей все, что в общем русле мировоззрения эпохи считали необходимым, действенным и возможным.
Другое дело, что часто предпринятые меры лежали в плоскости магических, а не практических действий, но таковы были общественные приоритеты. Кроме того, как было отмечено Н.Л. Пушкаревой, «тенденции «небрежения» детей, особенно девочек, в допетровской Руси постоянно (с X в.) противостояли представления о «благочестивом родительстве», выработанные православной концепцией и, судя по требникам и покаянным сборникам, составлявшие суть проповеди. И хотя о действенности дидактического слова того времени у нас данных нет, тем не менее по церковным текстам можно судить о самом существовании в то время представлений о допустимом и предосудительном с точки зрения идеалов христианской нравственности». Поэтому описывать древнерусскую модель отношения родителей к детям как исключительно деспотическую, не дающую возможности развиться чувствам родительской любви и привязанности было бы совершенно ошибочно.
Конечно, необходимо признать, что, на взгляд современного врача-педиатра, многое в воспитании детей в средневековом обществе было вопиющим нарушением санитарных и педагогических норм, но даже Ллойд Демоз, американский исследователь эволюции детства, нарисовавший чрезвычайно яркую и поистине ужасающую картину истории детских страданий, должен был признать, что этой совершенно неправильно ориентированной заботы часто было достаточно, чтобы вырастить ребенка.
Следует отметить, что детство как культурный феномен обычно соответствует характеру эпохи, и практика регулярных телесных наказаний и запугивания детей, возможно, выполняла функцию подготовки к взрослой жизни, жестокой и трудной. Возможно также, что «средневековые жестокости», изумляющие современного человека, были в свое время «меньшим злом», которым предотвращалось зло большее, сокрытое от современного наблюдателя. Так, например, строгие и жестокие подчас меры по ограничению детской подвижности, возможно, действительно отрицательно влиявшие на психику, позволяли сохранить жизнь ребенку в условиях, когда родители вынуждены были отлучаться для работы в поле или в мастерской и не могли обеспечить постоянный присмотр1. Демоз приводит случаи злоупотребление этими, несомненно, жестокими приемами (няня до состояния окаменения пугает ребенка, а сама отправляется развлекаться), но не учитывает условий их обычного функционирования. В конечном итоге, если бы воспитание в традиционном обществе носило столь губительный характер, как это показано в книге Демоза, человечество бы не увеличило многократно свою численность, а постепенно вымерло. Если, рассуждая об общем уровне жестокости, сравнить древнее и современное общества, то и здесь выводы могут оказаться совсем неоднозначны. Неизбежная жестокость сохраняется, меняются только ее формы. Постиндустриальное общество, конечно, требует от родителей скрупулезной заботы о младенце, но терпимо относится к контрацепции и абортам, что лишает возможности появиться на свет такое количество малышей, которое не идет ни в какое сравнение со всеми замученными детьми Средневековья. С позиции средневекового человека это могло бы показаться жестокостью никак не меньшей, чем тугое пеленание и наказание розгами, производившееся «на благо» подрастающему поколению.