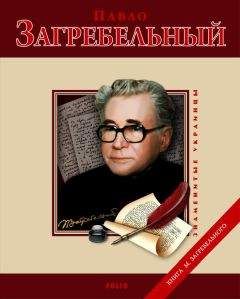А всех несчастней была Евпраксия, хотя и звалась с самого рождения:
"Счастливая".
Со смертью Рудигера с Евпраксии словно сняли невидимую тяжесть. Она сразу почувствовала себя свободной, к ней возвратился мир детских увлечений, она теперь охотно ехала по безмерно великой земле, не задаваясь вопросами о том, куда направляется и что покидает; она могла любоваться цветами и травами, собирать листья прошлогодние и желуди, допытываться у Журины, не чеберяйчики ли прячутся под шапочками желудей. Как-то сразу открылась перед нею пуща, шла широкая, темная, в непролазности трясин и завалов, в запахах плесени и гнили, наполненная щебетом птичьим, ревом зубров, ночным таинственным топотаньем, шелестом, треском, шорохом.
Евпраксия стала внимательней присматриваться к людям, сидевшим в придорожных поселеньях. Одичалые, нелюдимые, помесь грабителей и бродяг, мохнатые, немытые, равнодушные к миру, который обращался с ними твердо и жестоко, посылал на них снега, бури, злых путников, диких зверей, одиночество, мор. Нигде не встретили ни женщины, ни девушки: не могли удержаться среди дикости, бежали из поселений, оставляли мужчин одних – тем от рождения суждена была одинокость тяжелых обязанностей на княжьей службе. Однажды все-таки им попалась навстречу женщина. Была она такой старой, что и сама не ведала: живет иль умерла уже давно. Журина расспросила ее. Евпраксия испуганно посматривала на старуху, слушала, не верила: неужто бывает на свете и такое?
Убиты сыновья, муж, она хочет умереть, а боги велят: "Живи!" Вот и живет. Таскает хворост за ограду, согреться людям, когда они проезжают мимо поселения. Чем питается? Тем, что дадут. А если долго никто не едет?
Тогда так живет.
Евпраксия ужаснулась. Велела сбросить припасы с одного воза, с другого. Старуха закачала головой. Все одно – до смерти не напасешься.
Хоть и нет никого жадней человека.
Еще долго Евпраксия вспоминала старуху, допытывалась у Журины: "А как же зимой? А ночью? Не страшно ей одной?"
Потом забыла про старуху – может, и навсегда. Ведь княжной была, а княжеские головы так уж устроены: больше забывают, чем помнят.
Гостила Евпраксия в небольших городках и в таких крупных городах, как Луческ, где сидел князь Ярополк, где были высокие валы над Стыром, хмурые вои с длинными копьями, густые меды и надоедливые молитвы. Но не задерживалась нигде, хотела ехать, продвигаться вперед, видеть больше, наслаждаться миром божьим, радоваться жизни, смеяться солнцу, деревьям, рекам и ручьям. Дальше, дальше, дальше!
Начались предгорья Карпат. Дорога пролегала словно по дну некоего богатырского блюда, стенки которого поднимались зелеными валами лесов так недостижимо-высоко, что хоть плачь от бессилия достигнуть их. После был бешеный клекот горных речек, хмурые вершины гор, тучи наверху, тучи внизу под ногами, колючие ели, загадочные широколистые папоротники, круглые лбы камней, омываемых потоком целые века.
По ночам Евпраксия не хотела идти в поселенье. Сидела у костра, рядом с Журиной, священником и Кирпой, который не отступал от княжны ни на шаг.
Таинственная темнота обступала желто-медный огонь, стрелял хворост, прыгали в черные сумерки гранено-острые искры, душа огня отлетала в высоких всплесках пламени, жар оставался, оборачивался сизым пеплом – так седая пена старости обступает молодую жизнь. Но Евпраксия была далека от тревог старости, ей хотелось еще и еще огня, она сама подбрасывала в костер сушняк, балуясь, прыгала рядом, обжигалась жаром, с визгом отскакивала, когда слишком длинный жадный язык пламени вырывался в сторону, а затем взвивался высоко-высоко, в самое небо, и казалось, это он только что нарисовал проступившие из тьмы задумчиво-сонные горы, и горы были как тьма, а тьма вставала вокруг, будто горы, и у Евпраксии на миг возникало желанье жить вот в таких горах, если б не знала она больших равнин, что зелеными волнами залегли в ее детской памяти на всю жизнь.
Путь вел Евпраксию в Краков, дальше через Чешский лес в Прагу, затем в Эстергом к тетке Анастасии, бывшей королеве венгерской, а оттуда по Дунаю в Регенсбург, где уже была Германская империя. По этой дороге ехала когда-то ее тетка Анастасия, ехала и вторая тетка Анна в жены к королю Франции Генриху. Анну прочили было в жены сыну германского императора Конрада, но Конрад ответил отказом на послание Ярослава. В Майнце Анна встретилась с сыном Конрада, Генрихом германским, который весьма сожалел, что досталась она в жены темному своему французскому тезке, а не ему, но что ж тут можно было поделать? Тетки Евпраксии узнали лучшую, чем у нее, судьбу, все три стали европейскими королевами, все три вышли замуж взрослыми, не пришлось им так вот, как ей, в детском возрасте мерить далекие дороги, да еще и ради чего? Чтобы стать какой-то графиней на окраине империи.
В горах дороги неминуемо сливаются в одну или в немногие, отчего движение по ним не прекращается даже ночью. Едут куда-то воины, едут духовные лица, государственные люди, гонцы с грамотами, послы, сборщики дани, караваны купцов, монахи-беглецы, вечно ищут пристанища несчастные рабы, мечутся из конца в конец грабители, бродяги, наскакивают кочевники, живущие на конях, опережающие все слухи и ветры.
К путешествующим люди в горах относятся настороженно-напуганно, селятся здесь на малодоступных вершинах, прячутся в чащах, за изгибами потоков; жизнь в горах всегда была жизнь в нужде, и для тех даже, кто там так иль иначе освоился, а для странствующих людей, особенно для бедных, здесь и вовсе была беда, и они проклинали день, когда вынуждены были покинуть свой дом.
Громадный обоз русской княжны наполнил горы клекотом, удивлением, завистью. Если б кто и захотел напасть на него, он неминуемо наткнулся бы на железную стену киевских дружинников, расставленных воеводой Кирпой, привычным к дальним путешествиям, столь умело, что, казалось, будто богатства киевской княжны охраняет несчитанно-большое войско. Если ж кто-то из челядинцев, в испуге от далекой дороги, тоскуя по дому иль просто пожелав урвать и себе кусок из лакомого обоза, пробовал бежать с возом ли, верхом ли на коне, осле, верблюде, то его ловили не только киевские дружинники, но и саксонцы, предпочитавшие довезти все до Саксонии в целости, а если и разворовать обоз, то у себя дома, и для себя, а не для кого-нибудь другого.
Евпраксия не обращала внимания на запутанную взрослую жизнь в своем обозе, то уходила в детские воспоминания, то ее охватывал приступ княжеского высокомерия, и тогда прогоняла она от себя даже мамку Журину, одевалась в паволоки, сходила с окованной серебром повозки, приказывала нести себя в обитой ромейскими золотыми тканями лектике, и восемь сильных смердов легко несли маленькую княжну, а она, закусив губы, горделиво поглядывала по сторонам, так, будто готовилась управлять не какой-то маркой, а целым светом.
В Кракове в честь Евпраксии было устроено многодневное пиршество; были прославленные славянские каши, меды холодные и горячие, пива, жаркие, были ухаживанья красивых гордых воевод; Евпраксии, священникам, дружинникам и Журине преподнесли богатые дары; устроили птичьи ловы для забавы русской княжны, для нее пели песни, веселые и грустные, как огромные славянские равнины; краковяне просили оставаться в гостях хотя бы до весны, ведь поезду киевской княжны незачем было торопиться, но Евпраксия была упрямо-неумолимой: дальше, дальше, дальше!
Сама не знала, куда спешит, но после смерти Рудигера, когда спала с ее души железная тяжесть, когда глаза перестали видеть, как посол Генриха фон Штаде давит княжеские перины железным своим панцирем, намереваясь раздавить и ее нежное маленькое тело, она избавилась от страшного наваждения. Не было теперь не только Рудигера с его нагло-гремящим железом на беззащитно-мягком киевском ложе, – будто не существовал и сам граф Генрих. Евпраксия не хотела думать, кто расправился с Рудигером: князь ли Всеволод, в чьем сердце при воспоминании об обнаглевшем рыцаре на ложе рядом с дочкой, возможно, шевельнулась обида и боль за нее, то ли сам граф Генрих, убравший свидетеля, поскольку свидетели, как выразился аббат Бодо, всегда нежелательны. Евпраксия уже ведала, как убирают свидетелей. Графиня Ода, после смерти Святослава возвращаясь вместе со своим сыном Ярославом в Германию, вывезла все богатства, собранные киевским князем. А довезти их в такую даль не могла и зарыла где-то на Волыни, приказав убить всех, кто помогал прятать сокровища. Об этом говорилось в Киеве – средь простого люда с тайным испугом, средь богатых и сильных с хищным удовлетворением.
Княжеским детям не рассказали, конечно, но они узнали обо всем от мамки Журины, которая не выносила малой несправедливости, а тут ведь шла речь о страшном преступлении.
Но теперь Евпраксии даже нравился этот обычай властителей тайно избавляться от свидетелей. Ненавистного Рудигера устранили, убрали навеки, о, если б она могла это сделать сама, не колеблясь, чтобы чувствовать себя ныне свободной, свободной, свободной!