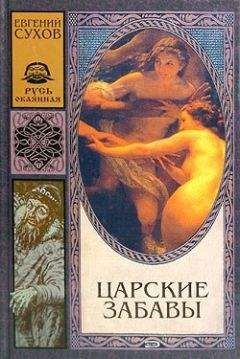Нежданно ступила весна на государев двор, того и гляди растопят босые ноги стоптанный снег. Талым ручьем с лиц боярышень сошла гордыня, оставив в глазах только холод. Неужно это те самые злыдни, что хулу про своего господина на базарах разносили? Вот и взрастили опалу. Зима — самое время, чтобы собирать худой урожай.
Государь Иван Васильевич сполна насладился томлением девиц, а потом посочувствовал:
— Что, девоньки? Не пляшется вам без сопелок? Мы сейчас к вам музыкантов покличем, пускай они вам услужат. Эй, Григорий Лукьянович, пускай скоморохи в сопелки подудят. Хочу, чтобы девицам смешно стало.
На зов государя на крыльцо валом высыпали скоморохи, и первым среди них был Черный Павел с бубном в руках. Следом, кривляясь, прыгали дурки-шутихи и карлицы; щипая струны, важно ступали гусельники и скрипотчики.
Государь спустился с крыльца. Оглядел перепуганных девиц. Минуло немало времени, когда царь выбирал супругу, подглядывая за ее переодеванием через дыру в стене. Сейчас же лишь по одному царскому слову боярышни поскидали с себя платья на лютом морозе, не замечая похотливых взглядов молодых стрельцов и не слыша грубоватых замечаний челяди.
— А теперь, девки, с плясками по улице пойдем, давайте московский народ порадуем, а вы, скоморохи, подыграйте девонькам. А боярышням честь великая, сам государь им в ладоши хлопать станет!
Ворота отворились, и девицы, подгоняемые потешной братией, ступили в сугробы.
— Пляшите, девоньки! Пляшите, милые! — не унимался государь.
Увиденное обернулось для Ивана хмельным напитком, и закружилась головушка у царя-батюшки.
Девицы, не выбирая дороги, топали по глубокому снегу, вызывая у москвичей горечь и смех. Дивное это зрелище — голые девки посреди Москвы.
Скоморохи дудели, сопели, дергали струны, и весь город понял, что не зря потешники пьют дармовой государев квас. Если и было кому-то не до веселья, так это девицам, которые прыгали так, как будто плясали на раскаленной сковороде.
Митрополит Кирилл возник из ниоткуда, словно разверзлись сугробы и выпустили из горячих недр крепкую и сутулую фигуру святителя. В черной сутане, на скомканном снежном покрывале он походил на восставшую государеву совесть. Немой укор был так горяч, что способен был растопить до первой травы снежные завалы.
И монах, уперев посох в грудь государя, спросил:
— Балуешь, Иван? — Устремила совесть свой взор в самое нутро царя. Вздрогнул Иван, как будто и впрямь опалился от огня. — Охо-хо, душу свою для благодати божьей не бережешь, а тем самым от царства небесного отказываешься… и земного суда для тебя не сыскать! Думаешь, выше всех смертных поднялся? Ан нет! Господь с тебя и за девичий позор спросит строго!
Совесть, выглядевшая поначалу только расплывчатым темным пятном на снегу, все более воплощалась, увеличивалась в размерах и через мгновение стала такой огромной, что была выше набатной башни.
А Кирилл продолжал с высоты митрополичьего величия:
— Душу свою ты бесу продал, Ивашка, а вместо сердца у тебя гноище зловонное, — голос его звучал торжественно, подобно колокольному звону. — Опаскудел ты, Иван Васильевич, а в скотстве своем превзошел даже язычников!
Отвык государь от оплеух, многие годы он жил так, как будто был одинешенек. Иван давно уже не встречал поднятых глаз, а громкий разговор воспринимал едва ли не за дерзость. И вот сейчас монах говорил так, как будто видел перед собой не самодержца, при упоминании о котором вздрагивала половина королей Европы, а послушника, заглядывающего девицам под сарафан.
— Бога не чтишь и девок на срам выставляешь. Все московские цари в благочестии жили, не ведали о прелюбодеянии, о чадах своих пеклись. И сын твой старший в тебя уродился, ест плоть девиц, подобно дьяволу, а ты, уподобившись зверю, лакаешь горячую кровь. Сатана ты, государь, и отродье плодишь сатанинское! Нет тебе спасения на этом свете, не дождешься ты его и на небе! — пророчески провозгласил митрополит Кирилл.
Опришники видели, как передернулось лицо государя, щеки пылали так, как будто их лизнули языки пламени.
— Жарко мне, — проговорил государь, распахивая воротник.
Мороз все более усиливался, а Иван вел себя так, как будто вокруг бушевало адское пламя.
— Шубу с меня снимите! — взмолился Иван Васильевич. — Жарко мне что-то, господа.
Слова, произнесенные митрополитом, зажгли в душе самодержца свечу раскаяния, которая вспыхнула так, что грозила спалить Ивана Васильевича изнутри.
— Зябко нынче, государь, — посмел возразить Малюта Скуратов.
Шуба огромным мохнатым зверем лежала на снегу, упрятав под собой целый сугроб.
А самодержец все не унимался:
— Кафтан тяните, в одном исподнем хочу быть!
Опришники выполнили волю государя, будто и они подозревали о полыме внутри Ивана Васильевича, которое через миг способно пожрать его всего.
Девки совсем скрючились от холода и посиневшей кожей напоминали цыплят, лишенных пухового наряда.
Некоторое время Иван Васильевич созерцал их нагие тела, напоминавшие небольшие сугробы, а потом, махнув рукой, отрешенно объявил:
— Молиться иду… А вы домой собирайтесь! Нечего свою красоту напоказ всякому встречному выставлять.
И, потеряв интерес к затее, пошел ко дворцу, а следом, спотыкаясь о снежные комья, с шубой в руках бежал Григорий Скуратов.
— Царь-батюшка! Иван Васильевич, ты бы шубейку на плечики накинул! Царь-батюшка, шубейку ты оставил, пожалей себя, Христа ради!
Иван Васильевич каялся рьяно — по-другому он не умел. Даже в раскаянии государь старался быть откровеннее и искреннее челяди. Если клал поклоны, так не иначе как до ссадин на лбу, если горевал, так слезами заливал весь пол, а если бы надумал убиться, так сделал бы это непременно с высокой колокольни, а коли доведется страдать, так чтобы всей России было слышно.
Государь винил себя во всех смертных грехах: в прелюбодеянии, в смертоубийстве, в богоотступничестве, призывал на свою голову великие немилости, называл себя смердящим псом и грязным Иванцом. А потом во всеуслышание объявил дворцовой челяди, чтобы величали его не иначе как Худородный Ивашка, и всякому, кто осмелится назвать его по-прежнему, обещал раскаленным прутом выжечь внутренности.
Зная переменчивый характер самодержца, челядь, заслышав в дальних коридорах дворца размеренную царскую поступь, разбегалась во все концы, опасаясь кликать его по-новому. Иван Васильевич был непредсказуем, как июльский дождь, а в самобичевании доходил до исступления.
Государь был противоречив. В его характере уживались различные черты: он мог быть чувствителен и жесток одновременно, любвеобилен и нелюдим. Его душа, что пиво, настоянное на ядреном хмеле, требовала одновременно покоя и бунта.
Иван Васильевич наложил на себя строжайшую епитимью, по которой запрещал себе входить даже в притвор церкви, и всякому, кто заметит государя подле собора, полагалось лупить его нещадно.
Таков был указ, зачитанный глашатаем с Лобного места.
Государь страдал и в эти дни своим печалованием превзошел даже святых старцев. Он доходил в раскаянии до того, что забирался на колокольни соборов и с пятнадцатисаженной высоты во всеуслышание объявлял о грехах, в которых не всякий способен повиниться даже на исповеди.
И чем откровеннее было покаяние, тем легче прощалось государю; и чем непонятнее Иван Васильевич был для бояр, тем яснее становился простому люду.
Вот такой государь им был милее всего!
Если рубил головы, так по три дюжины зараз; если веселился, так от пляса ходуном ходила вся округа; если угощал, так чтобы от обилия снеди ломались столы.
Разудалый был государь в буйном веселье и мало чем отличался от мужиков, которые ежели дрались, так бились до тех пор, пока не вышибали друг у дружки все зубы.
И, наблюдая за Иваном Васильевичем, любая баба могла утверждать, что ее мужик в веселии и в блуде мало чем отличается от самого царя.
И при всем при этом Иван Васильевич был одинок. Он был обречен на одиночество по самому рождению, уже в малолетстве с ним никто не мог стоять вровень, а сейчас, когда он стал властелином едва ли не половины мира, даже самые родовитые из бояр не сумели бы дотянуться ему до пояса.
Иван был одинок как скала, стоящая посреди поля, как дуб, поднявшийся ввысь среди мелкорослого кустарника. Если кто и подпирал своею главою небо, так это государь московский Иван Васильевич.
Став первым по праву рождения, он оставался единственным в делах и не терпел рядом не только присутствия чужого локтя, но даже отдаленного соседства.
Где оно, именитое боярство, что мнило себя старшими Рюриковичами? Прахом изошли! Одинешенек остался.
И чем сильнее была епитимья, тем горше становилось государю. Иван ушел вперед, оставив после себя разоренные боярские роды, и чем яростнее были его поклоны, тем меньшим спрос должен быть на божьем суде.