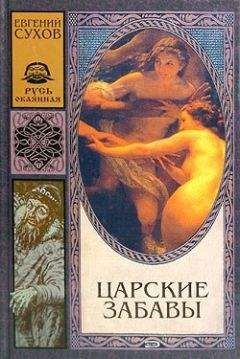И чем сильнее была епитимья, тем горше становилось государю. Иван ушел вперед, оставив после себя разоренные боярские роды, и чем яростнее были его поклоны, тем меньшим спрос должен быть на божьем суде.
— Господи, прости меня за прегрешения! — каялся Иван Васильевич, ударяясь лбом о мраморный пол. — Опостылело мне все, господи!
А однажды государь и вовсе удивил челядь, когда принял Малюту за красавца Афанасия Вяземского.
Остолбенел думный дворянин от ужасного окрика и отвечал покорно:
— Это я, Иван Васильевич, холоп твой, Гришка Скуратов. Али запамятовал?
Холодом повеяло от всего облика царя Ивана, будто кто-то распахнул глубокий погреб да забыл прикрыть; а еще так дышат склепы, спрятанные от дневного зноя толщиной камня.
А Иван Васильевич будто не слышит:
— Вижу, что по мою душу пришел, Афанасий Иванович. А я ведь все ждал тебя. Только не лучшее время ты выбрал для этого, князь. Занят я! Молюсь. А Молельная комната — это то самое место, где можно покаяться обо всех вас, убиенных. Каюсь я, князь! Не о тебе одном каюсь, а обо всех. Вот и ступай своей дорогой, не мешай мне.
Грохнулся государь лбом об пол. Чугунный лоб у государя, звук такой, будто пономарь в колокол ударил.
— Господи, спаси и помилуй! Прости своего смердящего раба царька Ивашку. А ты, Афанасий Иванович, ступай, не дожидайся меня. Занят я! Ежели нужда в тебе наступит, так я сам позову. Нечего мне пока с покойниками беседовать, живой я!
Помешкал малость Малюта Скуратов у порога, а потом догадался слукавить:
— Как скажешь, государь, ухожу я. Приду, как позовешь.
А вдогонку Григорию самодержец кричит:
— Помни, Афанасий Иванович, пока не покличу, возвращаться не смей!
* * *
Уныло было на московском дворе.
Дрема плотной густой паутиной заткала дворец, и челядь двигалась по избам с тем вялым изяществом, с каким полузадушенная муха пытается освободиться от навязчивого паука.
Государь едва передвигался. Он стал тихим, как монах после принятия схимы. Царь как будто сделался ниже ростом. Если раньше его присутствием был заполнен весь дворец, то сейчас Иван довольствовался крохотной комнатушкой, которая обычно отводилась челяди.
Богомольное похмелье опутало не только дворец, сонливой выглядела и Москва, и под стать единому настроению в Стольной прошел дождь со снегом; растопил лед на Неглинной, подняв стылую воду к самым огородам.
А скоро Иван Васильевич объявил дворец божьей обителью, где пожелал предстать в привычной для себя роли строгого игумена; дворцовую челядь в тот же день он обрядил в зимние рясы.
Ближние люди, привыкшие к царскому разгулу, пересмеивались весело:
— Надолго ли хватит царского целомудрия?
— Бабий монастырь отстроил бы рядом с государевыми хоромами, вот тогда и монашье одеяние не покажется обузой.
Челядь охотно приняла новую забаву государя: по примеру царя отказалась от мяса и вина, твердо уверовав в то, что месяц целомудренного жития завершится разгулом, где в хмельном веселии захлебнется половина Москвы и позабудутся прежние обещания.
Однако Иван Васильевич был само благочестие и для прибавки святости попивал квасок Чудова монастыря. Царь повелел отправить по родителям сенных девиц и боярышень, а старух-богомолиц, что ходили по дворцу толпами, распорядился привечать всяко, разглядев на их лбах печать святости.
Дворец напоминал огромный монастырь со строгим уставом, где за порядком, нахмурив узкое чело, следил сам государь, и не однажды нерадивый опришник был бит батогами.
Иван Васильевич пристрастился к ночным молениям, проявляя при этом недюжинную выносливость. Царь мог по многу часов бдеть и класть поклоны, а для пущего страдания вешал на шею пудовый камень и не расставался с ним до конца службы. Бояре, подражая государю в усердии, цепляли на тело тяжелые вериги из чугуна, и когда царская братия шла молиться, звон от цепей убегал далеко за Белый город.
Каждый из опришников старался так, как будто это была его последняя молитва, напоминая своим раскаянием приговоренных на казнь. Весь облик царских приближенных вопил: помолиться, причаститься и умереть. Государь превосходил лучших людей в стенании и неистовствовал так, как будто хотел докричаться до самого бога:
— Господи, помилосердствуй над своим рабом, облегчи его страдания, сделай милость! Накажи тех, кто отнял у меня душу и пожелал снять с шеи крест!
Из ближних и дальних дач, поверив в прощение государя, возвращались князья Долгорукие и охотно присоединялись к хору вельмож:
— Спаси и помилуй, господи!
Малюта Скуратов посматривал на Долгоруких недоверчиво, а однажды, столкнувшись в коридоре с Петром, старшим братом почившей царицы, прижал его плечиком.
— Недолго тебе по земле ходить, нечестивец. Вот отойдет Иван Васильевич от горя, вот тогда я и напомню о государевых изменах. Первый головы лишишься!
И могучее плечо Скуратова-Бельского вжало в косяк не менее крепкое тело Петра Долгорукого; едва не задохнулся князь, как будто ему на грудь упала могильная плита.
— Все силой тешишься, Григорий Лукьянович? Только и самые верные царские холопы вечный покой отыскали. Разве не чуешь, что твой черед настал?
Прав был Петр Долгорукий. Одного за другим государь сжил со света всех прежних любимцев. Казни избирал для них особенные и даже смертью хотел выделить их из толпы прочих: кого на сковороде повелит изжарить, кого за крюк повесит. Случалось, что царь пытал самолично, а такой чести удостаивались только ближние други.
— Ух! — выдавил из себя Малюта Скуратов, и этот стон больше походил на загробный выдох упыря.
— Что? Дышать тебе больше нечем? Видно, чуешь, как на твоей шее петля все туже затягивается.
— Ведомо мне о том, что ты известный шутник, Петр. Только выбивать из-под ног скамеечку у таких висельников, как ты, мне сподручнее.
— И на тебя палач народится, Григорий Лукьянович, а теперь пусти меня, слишком плечико у тебя широкое.
— Не прощаюсь я с тобой, князь. Гостей от меня жди.
Посторонился Малюта Скуратов, и Петр Долгорукий, хмыкнув в ответ, пошел в Молельную вслед за унылыми боярами.
* * *
Для разговора с государем Григорий Лукьянович время подбирал тщательно. Думный дворянин решил дождаться воскресения.
Причастится государь, покается и делается другим, будто новой кожей обрастает.
А еще царь Иван бывал добр после колокольного звона. Остановится у мирской приходской церкви и слушает медный голосище. А пономарь, завидев с колокольни царя в сопровождении бояр и челяди, старается вовсю и рвет канат с яростью, набивая мозоли на ладонях.
Тут подходи к царю-батюшке и веди с ним беседу.
Малюта Скуратов дождался воскресения. В этот день был большой выход — государь в сопровождении тысячи вельмож отправлялся к церкви и шел пешком, даже если бывало неблизко.
На великолепие царских нарядов сбегалась посмотреть вся Москва — улицы запруживали толпы, и, если бы не стрельцы, которые двигались впереди шествия с батогами и наотмашь лупили всех выбегающих на дорогу, помял бы народ на радостях царя-батюшку вместе с боярами.
Обожал государь воскресные выходы — вот когда москвичи сполна могли оценить богатство самодержца, где только на суконной однорядке можно узреть столько каменьев, сколько не увидишь даже на иконном складе соборной церкви.
Остановится Иван Васильевич, благословит на четыре стороны стоящих на коленях людишек и пойдет дальше. Только самым счастливым удавалось коснуться кончиками пальцев великокняжеского одеяния.
Малюта Скуратов решил предстать перед государем во время шествия, когда колокольный звон заглушает не только Кремль, но и весь Белый Царев город. Протиснулся через плотные ряды бояр Скуратов-Бельский и занял место рядом с царем по праву любимца. Нахмурились ближние слуги самодержца, но изгонять Григория Бельского не хватило духу.
— Смотри, государь, как народ тебя любит, — подал голос Малюта.
— А чего ему меня не любить? — хмуро буркнул царь. — Я сам люблю свой народ, если и приходится кого карать, так только за измену. Хм… а эти изменщики — все больше бывшие други.
Лицо государя, тронутое холодом воспоминаний, сделалось суровым. Остудил ветер времени его красивое лицо, и оно застыло, словно было высечено из скальной породы. И чем горше была царская думка, тем тверже становились его черты.
— Такое очень часто случается, Иван Васильевич. Божий свет так устроен, что рядом с праведником всегда соседствует Иуда, — примерил на себя Малюта белые одежды пророка.
Губы Ивана потревожила слабая улыбка:
— А только Иудина судьба всегда одним заканчивается, а у меня на это сучье племя веревок в достатке припасено. Где же они, прежние вороги? От многих из них только прах остался!.. Если и знавал я предательство, так только от самых ближних.