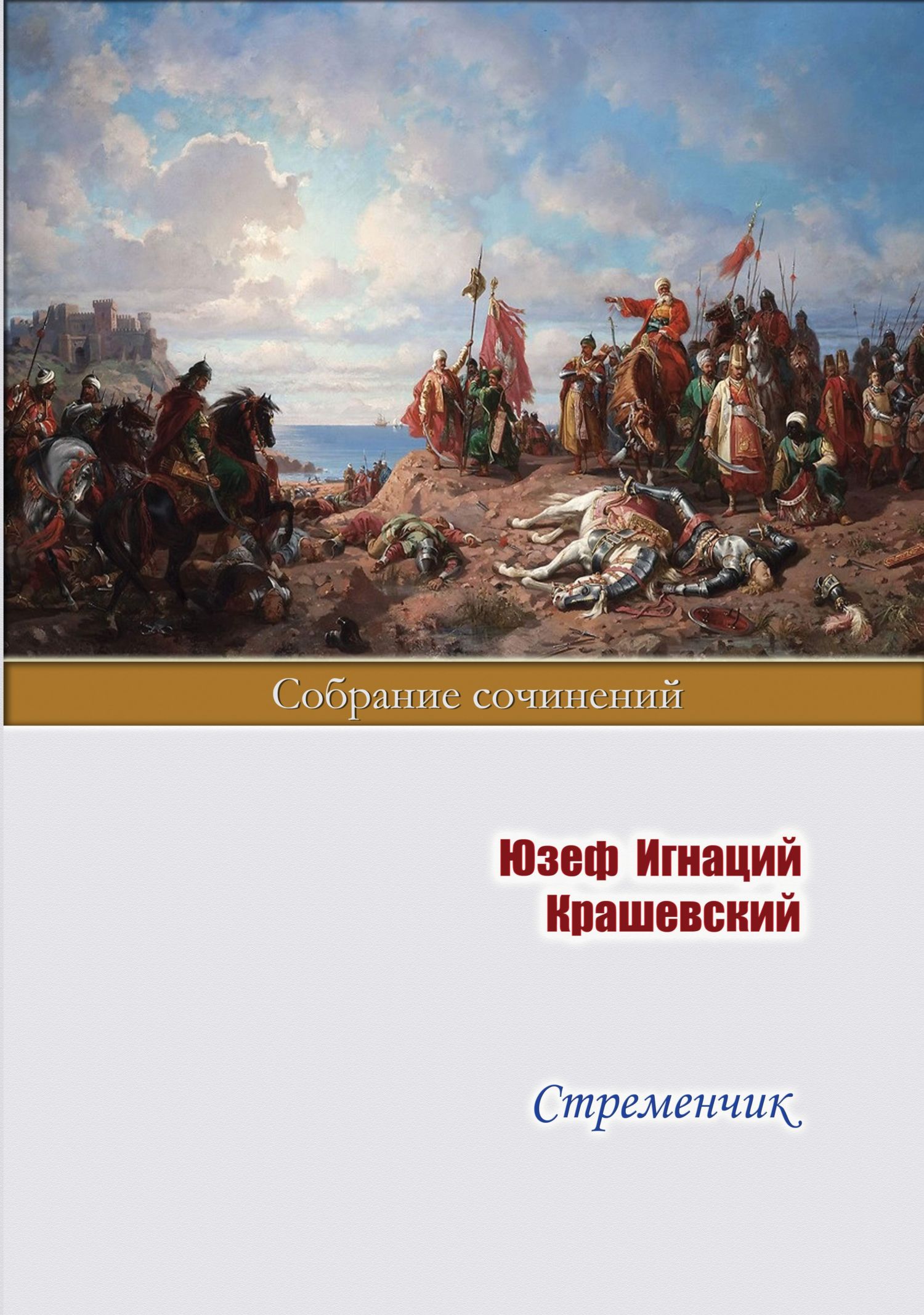что этот мир отбирал у них лавры, славу, заслуги, обращал в ничто все их надежды.
Король также был печален и задумчив. В дороге во время одной стоянки, невзирая на то, что присутствовал Грегор, Цезарини начал жаловаться.
– В самом деле, – говорил он королю, – никогда турок не дал большего доказательства коварства и разума, чем теперь. Он хорошо чувствовал и знал, что против него собираются все силы христианства, что ему не справиться…
Поэтому он согласился на все условия, какие никогда иначе гордость язычника не позволила бы принять. Прошлая война, в которой вы, ваше величество, покрыли себя такой славой, научила его, чего ему ожидать от другого похода. За этот несчастный мир вы дорого заплатите. Не говорю о себе, что я обязался за вас в лице Европы, потому что выгляжу лгуном… ведь Христовы дети должны научиться ходить в оплёванных одеждах! Я вынесу это со смирением. Мне больше жаль вас, потому что у вас пальму из рук вырвали!
Король вздыхал.
Та же жалоба повторилась в Буде. В тот день кардинал говорил с такой горячностью, с таким волнением, что чуть ли не слёзы выжал из глаз молодого челвека.
– Отец мой, – вырвалось из уст Владислава, – не заставляйте моё сердце кровоточить. Сталось, я сложил присягу, присяга – священна!
Цезарини пожал плечами.
– Присяга неверным, врагам Христа, подхваченная, к которой склонили Гуниады и деспот! Что стоит такая присяга!
Ничего! Папа и я отпустили бы вам грех, если бы пришлось её нарушить…
Король побледнел и начал дрожать.
– Отец мой, – сказал воспитанный в уважении не только клятвы, но данного слова, молодой Ягеллончик, – вы бы, может, отпустили мне грех, но моя совесть – никогда!
На этот раз, не поддерживая своего мнения, Цезарини презрительно скривился и замолчал.
Вечером король повторил отрывок этого разговора Грегору из Санока, который, услышав это, задрожал и заломил руки.
– Мой король, – сказал он, – всякая присяга священна… Язычникам или верным её нужно сохранить. Кардинал возбуждён великой мыслью погубить врага Христова креста, но он ошибается. Пыл не даёт ему ясно увидеть правду. Ради Бога, не дайте отвести вас с правой дороги.
Тем временем едва король вернулся в Буду, этот на первый взгляд такой спокойный кардинал, который поначалу только жаловался, начал уже приносить не собственные сетования, но приходящие ото всюду письма и провокации к войне.
Первые пришедшие письма были от кардинала Францишка, титула св. Клемента, командующего папским флотом, с донесением, что его корабль вместе с флотом венецианцев и генуэзцов стоял в готовности выйти в море, чтобы перекрыть туркам проход к Анатолии и не пустить подкреплений.
В тех письмах, отправленных раньше, чем узнали о заключении мира, уговаривали короля, чтобы, согласно данному слову, поспешил в Румынию и начинал войну.
Насмешливо улыбающийся, ироничный кардинал прибыл к королю с этими письма и, бросая их на стол, выпалил тоном уже иным, чем раньше:
– Ни отец святой, ни республики, ни герцог Бургундский не знают, что мы заключили этот мир. Флоты готовы, Европа на нас рассчитывает. Какой позор! Какое унижение, какая опасность для дела христианства, которое вы забросили!
Испуганный король слушал.
– Мир вас связывает, но Европу не обязывает… она его знать не хочет. Святой отец сделал такие жертвы, кардинал Францишек ждёт, а мы тут… сложа руки.
– Вы видели необходимость, святой отец, – сказал король.
– Я видел не необходимость, а упорство деспота и Гуниады, – живо ответил Цезарини, – а теперь вижу ваше вероломство по отношению к папе. Вы обещали, но нарушили ваше слово.
Король с заломленными руками метнулся к Цезарини.
– Разве вы можете меня в этом упрекать? – крикнул он.
– Правда! Правда! – воскликнул кардинал, распаляясь. – Папе и христианским правителям вы дали обещание, слово рыцаря… а теперь… выставляете их на острие…
– Отец мой! Помилуйте! – сказал с мольбой король. – Вы видели моё поведение, я был вынужден…
– Значит, что же стоит ваша вынужденная присяга? – прервал торжествующе кардинал.
Владислав не мог на это ответить, но со сдавленной грудью, испуганный, грустный он вышел и закрылся в своей спальне.
Кардинал был снова, как раньше, разгорячён. Он не ограничился на этом обращении короля, понёс письмо кардинала к канцлеру, к польским панам, везде повторяя то же самое и пытаясь заранее приготовить к тому, что заключённый мир и сложенная присяга не имеют никакого значения.
Надо признть, что запальчивый кардинал умел красноречиво и убедительно поддержать своё дело. Перед венгерским канцлером он старался показать себя, что на весь народ падает позор за измену.
– Короля не обвиняют, – говорил он, – молоденький, неопытный, он мог поддаться обману и дать убедить себя.
Венгров ждёт позор за предательство Христа… на вас весь мир бросит вину, и справедливо! Вы в лице истории будете нести позор этого предприятие… Святой отец вам этого не простит!
Это первое письмо уже разволновало умы… многие из венгров и почти все поляки роптали против мира. Кардинал всё больше доказывал, что этот трактат не имел никакого веса, а присяга короля – значения.
Говорил громко, всем, и всё настойчивей повторяя, что готов взять нарушение клятвы на свою совесть и короля торжественно от неё освободить.
Это слово, едва сказанное, дошло до Грегора из Санока, который от возмущения и гнева впал в неистовство. Он начал также громко кричать, что никто, даже святой отец, от добровольно сложенной присяги избавить не может.
– Сам Господь Бог, – крикнул он в запале, – от того, что было совершено, не может освободить. Что стало, хорошо или плохо, то стало, и человек несёт последствия. Упаси Бог, чтобы кто-нибудь посмел уговаривать короля нарушить клятву!
Осквернить этим нашего чистого государя-героя! Никогда!
Впечатление ещё не остыло на лице кардинала, когда из Константинополя принесли письмо-мольбу от цезаря Иоанна Палеолога, который заклинал короля, чтобы не дал туркам обмануть себя, а шёл теперь с ними воевать, когда был назначен час их погибели, когда он мог нанести им смертельный удар.
Кардинал торжествовал, его лицо сияло. Он суетился горячей, чем когда-либо, не начиная с короля, но тайно налегая на значительнейших венгерских господ.
Он им доказывал, разговаривая лично с каждым из них, что подписанный мир был предательством, позором, а более ранние обещания эту присягу делали ничего не значащей.
Авторитет Цезарини, его речь, письма из Рима и Константинополя – всё это постепенно начинало действовать на более слабые умы и колебать их.
Рыцарство, жадное до славы, согретое тем, что папа, итальянские республики, герцог Бургундский, английские и и французские крестоносцы обещали помощь, стали громко жаловаться. Грегор из Санока остался практически один со