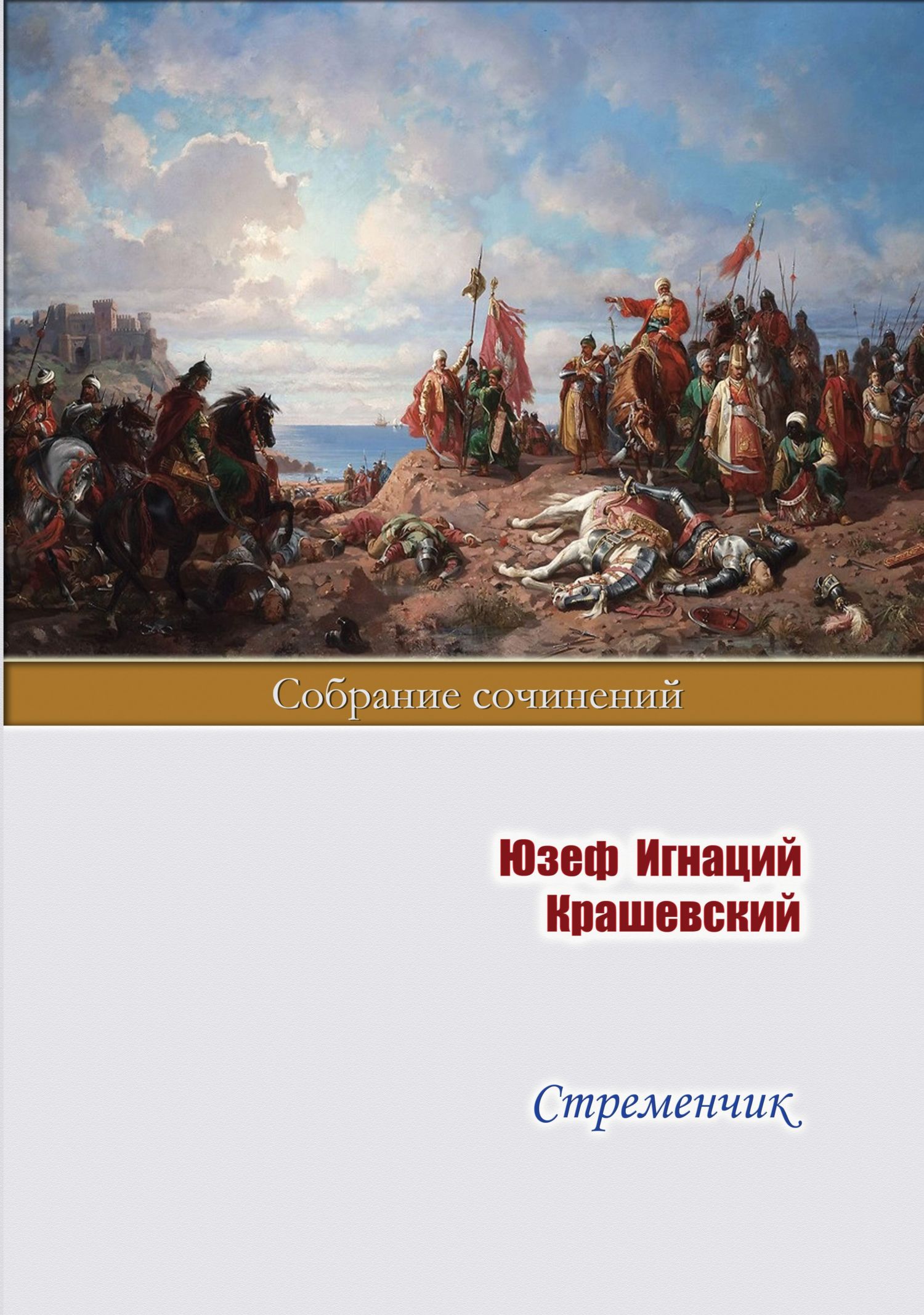глаза были обращены на короля, который стоял, смотрел на развёрнутую перед ним бумагу, на епископа, на кардинала, и губы его дрожали, а заговорить не мог. Вместо слов две большие слезы скатились на пергамент.
В зале долго царило молчание. Владислав стоял, положил руку на стеснённую грудь, задумался и наконец сказал дрожащим голосом:
– Нарушить присягу не позволяет моя совесть, но сложить корону, чтобы я не стоял помехой великому делу, я готов.
– А кто нам заменит такого героя, как вы? – спросил кардинал.
– Гуниады! – произнёс король.
– Великий вождь, но воевода Семигродский не заменит короля Польши и Венгрии! – сказал горячо Цезарини и поклонился так, что почти колено согнул перед королём.
Владислав быстро к нему нагнулся. Затем Цезарини повернулся за помощью к Розгону и другим епископам, и канцлер слегка неуверенным голосом начал повторять то, что раньше так красноречиво выкладывал.
Король слушал в молчании, не давая знака ни противоречия, ни согласия. Кардинал, который изучал это молодое, страдающее лицо, ждал, не сверкнёт ли на нём лучик. Он видел только всё более сильное беспокойство.
После епископов, которые все вторили Цезарини, с живостью и фамильярностью старого слуги, домочадца, советника заговорил Ласоцкий.
Из всех, может, речь декана, который лучше всех знал, как нужно убеждать молодого государя, произвела на него самое сильное впечатление.
Открылись уста, Владислав начал защищаться словами и аргументами Грегора из Санока. Ласоцкий их парировал, заслоняясь папским легатом, авторитетом святого отца…
Противостоять этому натиску король не мог. Очевидно, он уже чувствовал себя сломленным, оглядываясь, не придёт ли кто на помощь. Но все были против него.
Качающийся, уставший, Владислав упал на стул, опёрся на руку и, уже ничего не отвечая, неподвижно сидел.
Кто-нибудь другой, быть может, сжалился бы над его состоянием, но не кардинал Цезарини, который именно безоружностью и временным бессилием должен был воспользоваться.
Поэтому он наступал на короля, чтобы не оставлял их в неопределённости.
Владислав поглядел с мольбой, и ничего не отвечал. Молчание Цезарини расценил как согласие.
У Ласоцкого уже было приготовлено королевское письмо с датой этого дня (4 августа 1444), и он тут же начал громко его читать.
Цезарини победил.
Когда спустя несколько часов Грегор из Санока, вернувшись из монастыря, вошёл на дворы, его поразила перемена их внешнего вида. Юноши с криками и радостью, давно там не бывалой, бегали, точно уже готовились к какой-то экспедиции.
Амор из Тарнова заступил ему дорогу, поднимая вверх руку.
– Магистр! – воскликнул он. – Хорошая новость! Идём на турка! Война объявлена.
– Тебе почудилось? – ответил магистр.
Затем подбежал Гратус.
– Значит, вы не знаете, король и все паны приложили печати на акт, объявляющий войну. Идём на нехристей!
Не веря ушам своим, магистр побежал прямо к королю.
Это была именно та минута, когда Владислав, после несколькочасовой борьбы вернувшись в спальню, хотел просить у Бога прощения за то, что поддался насилию, упал на аналой перед распятием, дабы помолиться… над головой держал сложенные руки.
Так его нашёл Грогор из Санока… и сильная жалость охватила его сердце.
Он почувствовал, что если и была чья-то вина, она не падала на короля. Поэтому он не сказал ни слова, ни упрекнул, опустился с ним на молитву, но из его переполненной груди вырвалось рыдание и из глаз полились слёзы.
Девятого ноября, накануне дня Св. Марцина, все силы, сопутствующие королю Владиславу в экспедиции против турок, стояли уже на равнине под Варной.
Вплоть до этого дня поход можно было назвать удачным и победным, равно как смелым; однако же, присмотревшись к собравшимся около шатра молодым Завишам, польским рыцарям, которые, отделившись от толпы, стояли там отдельной группой, потихоньку разговаривая, на их лицах трудно было разглядеть этот запал, охоту и оживление, которые приносит с собой победа.
Медленно опускался вечер, время от времени с моря срывался яростный ветер, потом вдруг пролетал по наполовине высохшей, наполовину болотистой равнине и бежал куда-то скрыться в ущельях гор.
Потом наступила могильная тишина, прерываемая только каким-то монотонным шумом и бормотанием, приходящим с моря.
Справа на более светлом небе чернели бесформенные бастионы и башни Варнского замка. Ещё дальше горизонт опоясывали синие горы, на фоне которых горели рассеянные зарева от турецких лагерей, которые были разбиты тут же поблизости.
Все глаза были беспокойно обращены к этому красному свету.
Ближе, в поле зрения, можно было увидеть огни польских, венгерских рот и подкреплений, среди таборов, которые их отчасти заслоняли. Вечер был холодный, по небу мчались чёрные разбитые тучи, то скапливаясь, то рассеиваясь вверх.
Сзади и справа королевского обоза блестели, отражая палевый свет небес, лиманы и приморские болота. Кое-где из-за низких палаток поднимались многочисленные головы верблюдов, которых приходилось отделять от коней. Был слышен то более громкий, то более тихий говор солдат, заглушаемый ржанием коней.
В голосе животных в эти минуты было что-то такое, как бы отчаянный крик о спасении, беспокойство и тревога. У слушающих солдат невольно пробегала дрожь. Они невзначай прощались.
Группа солдат, которая стояла у шатра, беседовала, но голоса и лица были печальны, речь вялая. Взгляд устремлялся к турецким огням. Все говорили медленно, задумчиво, точно не хотели, чтобы их подслушали. Неподалёку, у королевского шатра, большая надворная хоругвь то шелестела, раздуваемая ветром, то опадала на древко.
Кроме двоих молодых Завишей, сыновей Чёрного, которые шли отомстить неверным за героическую смерть отца, в группе стояли Ватробка, Ендрей из Сиенна, Пётр из Латошина, а тут же у повозки, распряжённой и поставленной под опеку шатра, который заслонял его от ветра, возле раненного в одной из прошлых стычек Яна из Рзешова стоял с грустно поникшей головой Грегор из Санока.
Старший из Завишей, удивительно красивый мужчина с рыцарской осанкой, один из всей группы имел более радостное лицо и другим добавлял надежды и гордости.
Все казались изнурёнными…
В одну из этих минут, когда прекратился ветер и над лагерем опустилась тишина, на сером небе показалась стая каких-то чёрных птиц и медленно пролетала над лагерем. Грегор из Санока поднял голову и по карканью, которое доходило до его ушей, узнал стаю зловещих воронов. Заметил их и Ян из Рзешова, который лежал раненый на повозке.
– Хо! Хо! – сказал он. – Умные птицы заранее спешат на завтрашнее поле боя. Плохой знак.
– Неизвестно, для кого, – прервал радостно издалека Завиша.
Молчали.
– Летящих с правой стороны воронов римляне не любили, – шепнул Грегор из Санока, – но кто бы в это верил!
– Определённо, – прервал Ватробка, – что завтра, в день рыцарского св. Марцина, придётся решительно