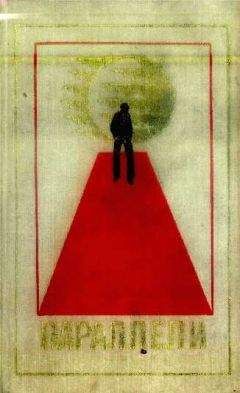«Какое было между вами условие?» – снова перечитал Мартынов. Вопрос мог бы быть опасным, но после беседы с Траскиным он был уверен в своем будущем. Пусть же дойдет до Петербурга, что он, решив встать против Лермонтова, готов был сам жертвовать жизнью.
Николай Соломонович взял бумагу и начал составлять черновик ответов.
«Условия дуэли были: каждый имеет право стрелять, когда ему угодно, стоя на месте или подходя к барьеру; осечки должны были считаться за выстрел; после промаха или ранения противник имеет право вызвать выстрелившего на барьер. Более трех выстрелов с каждой стороны не было допущено по условию… Я сделал первый выстрел…» – записал Мартынов почти с гордостью.
Потом перечитал набросок и тщательно вымарал слово «ранение». Писать о том, что можно было стреляться даже после ранения одного из противников, показалось чересчур кровожадным.
Из ресторации принесли заключенному изысканный обед. Он с аппетитом поел, выпил бокал вина и хотел было расположиться на отдых, но дверь камеры открылась.
– Ваше высокоблагородие, – отчеканил караульный солдат, – к вам чиновник.
Следом за караульным вошел невысокого роста, сухопарый человек в судейской форме.
«Видать, из образованных», – подумал Мартынов, быстро оглядывая неожиданного гостя.
– Разрешите рекомендовать себя, – чиновник говорил очень вежливо, но холодно, – исполняющий должность стряпчего Ольшанский.
– Рад знакомству, – отвечал Мартынов, отдавая поклон. – Чем могу служить?
– Вопросные пункты изволили получить?
– Имел честь. Как я разумею, это достойный плод именно ваших трудов, – Мартынов готов был перейти на неофициальный тон, но стряпчий не ответил на любезную улыбку.
– Обязанность службы, – коротко объяснил он. – Имеете ли в готовности ваши ответы следственной комиссии?
– Помилуйте! – воскликнул Николай Соломонович, все еще не теряя надежды установить с приказным крючком короткие отношения. – Если вам, господам судейским, с покорностью подчиняется перо, то нам, привыкшим действовать шашкой, совсем не так легко дается писание. Нет, милостивый государь, я не вижу оснований к спешке. А, собственно, что вас так интересует?
Стряпчий отвечал с видимым равнодушием, но с полной готовностью:
– Изволите ли видеть, господин майор, нам в гражданском суде редко приходится иметь дело с поединками.
– Прошу покорно извинить меня, – великодушно откликнулся Мартынов, – если дело мое затруднит следователей.
– Непременно затруднит, – подтвердил стряпчий. – Вот и хотел я предварительно осведомиться у вас: ведь в благородном сословии, прибегающем к поединкам, существуют определенные, хотя и противные общегражданским установлениям, правила, предусматривающие разные случаи столкновений и в зависимости от сего разные обычаи и способы боя?
– Безусловно. – Николай Соломонович стал внимательнее присматриваться к невзрачному чиновнику. – Обычаи дуэли имеют многовековую давность и освящены традициями…
Стряпчий слушал с вниманием, готовый, казалось, поучиться у отставного майора.
– К сожалению, – продолжал он, – мне не удалось найти ни одного сборника правил, принятых к руководству между дуэлянтами.
– Ничем не могу вам помочь. Однако главные из этих установлений известны каждому светскому человеку. Секунданты наши названы: то были, как вам известно, корнет Глебов и титулярный советник князь Васильчиков.
– Так, так, – согласился стряпчий. – А капитан Столыпин и князь Трубецкой?
– Совершенное ваше заблуждение! – почти резко возразил Мартынов. Прежнее благодушное его настроение стало сменяться тревогой.
– Прошу извинить. Их имена называют в городе, но, конечно, следственная комиссия не придаст никакого значения слухам. Однако же вернемся к делу. Если я по неосведомленности ошибусь, прошу меня поправить. Условия дуэли, предложенные вами как оскорбленным, были рассмотрены и одобрены далее господами секундантами?
– Таковы формальности, не имеющие существенного значения…
Николаю Соломоновичу стало совсем не по себе. Он покосился на начатый черновик показаний. По счастью, бумага лежала так далеко, что и при желании ни строки не мог бы прочесть любопытный стряпчий.
– Разумеется, формальность, – согласился тот, – но нам, судейским, по должности положено строго держаться формы. Буду покорно просить вас, господин майор, изложить пункт об условиях вашего поединка со всей подробностью. – Он встал, дав понять, что разговор окончен. А уходя, вдруг добавил все тем же равнодушным голосом: – Представьте, ведь и по этому поводу имеются злоумышленные слухи…
Мартынову показалось, что чиновник взглянул на него как-то особенно многозначительно. А может быть, все это только показалось. Стряпчий вежливо поклонился.
– Надеюсь вновь посетить вас в ближайшие дни.
И ушел, уклонившись от рукопожатия. Дверь закрылась.
Николай Соломонович: заметался по камере. Неужто пронюхала что-нибудь судейская крыса? Дай ему волю – он, пожалуй, превратит условия дуэли, не имеющие теперь никакого значения, в зловещую улику и пустит ее в ход раньше, чем придет желанная помощь! А может быть, даже раньше, чем успеет вмешаться недогадливый подполковник Кувшинников.
Надо прежде всего снестись с секундантами. Вместо заслуженного послеобеденного отдыха пришлось опять взяться за перо. Он быстро набросал короткую записку: «…бестия стряпчий пытал меня, не проболтаюсь ли, когда встретимся, скажу, в чем…»
Между тюрьмой, где содержался Мартынов, и военной гауптвахтой, где находились арестованные секунданты Глебов и Васильчиков, была установлена тайная почта. Записка тотчас полетела с караульным солдатом на гауптвахту. Но теперь уже и этой почте до конца не доверял Николай Соломонович. Следовало как можно скорее свидеться, чтобы общими силами обезоружить бестию стряпчего. Эта чернильная душа, кажется, знает больше, чем ей полагается. Надо непременно переговорить с секундантами во время разрешенной вечерней прогулки.
Но еще раньше, чем успел обдумать эту встречу Мартынов, ему вручили записку, писанную рукою Глебова. Писал корнет, но в каждом слове чувствовалось вмешательство дальновидного князя Васильчикова.
Николай Соломонович пробежал первые строки: «Мы должны будем сказать, что уговаривали тебя на условия более легкие, если будет запрос… Теперь покамест не упоминай условия трех выстрелов…»
На душе сразу отлегло. Пусть идет теперь стряпчий к секундантам. Право, они достойны похвалы… И вдруг Николай Соломонович вспыхнул и даже ударил себя по лбу: хорош он-то – чуть не проговорился, как какой-нибудь мальчишка, в первых же строках своих показаний… Нашел где бахвалиться!
Полученный урок пошел на пользу. Новый вариант показаний, изготовленный им, наглядно свидетельствовал о том, что промашек более не будет.
«По условию дуэли, каждый из нас имел право стрелять, когда ему вздумается, стоя на месте или подходя к барьеру. Я первый пришел на барьер».
Все! И ни одного слова больше. Извольте получить, господин стряпчий, если вам еще раз вздумается совать нос не в свое дело!
Но стряпчий более не приходил. После беседы с подполковником Кувшинниковым он стал совершенно безучастен к следствию. Только оставаясь наедине с собой, незадачливый чиновник все еще мечтал: он раскрыл бы умышленное убийство, совершенное майором Мартыновым у подножия Машука, если бы привелось закончить это дело по совести… Но что такое совесть? Та же мечта. А мечты после беседы с подполковником Кувшинниковым все реже посещали беспокойную голову исполняющего обязанности стряпчего господина Ольшанского.
Расположившись у неказистого стола, в убогом помещении для арестованных на военной гауптвахте, корнет Глебов приготовил бумагу, перо и выжидательно посмотрел на князя Васильчикова. Васильчиков медленно расхаживал по комнате, внимательно пробегая записку Мартынова, которую держал в руках. Из осторожности он никогда не писал Мартынову сам. Простодушный корнет делал это с полной готовностью.
Александр Илларионович, оставаясь в тени, принял на себя верховное руководство общей защитой.
– Неприятное письмо, весьма неприятное! – говорил он, продолжая размеренную ходьбу. – Мартынов становится притязателен и настойчив. Боюсь, как бы это не было свидетельством его растерянности. Ну что ж, давайте составим ему надлежащий ответ.
Васильчиков минуту подумал.
– «Признаться, – начал диктовать он, – твое письмо было несколько нам неприятно… Я и Васильчиков, – Глебов послушно записывал, – не только по обязанности защищаем тебя везде и во всем, но и потому, что не видали ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю… Напиши, что слова Лермонтова уже были вызов, особенно настаивай на этих словах Лермонтова, которые в самом деле тебя ставили в необходимость его вызвать, или, лучше сказать, были уже вызов…»