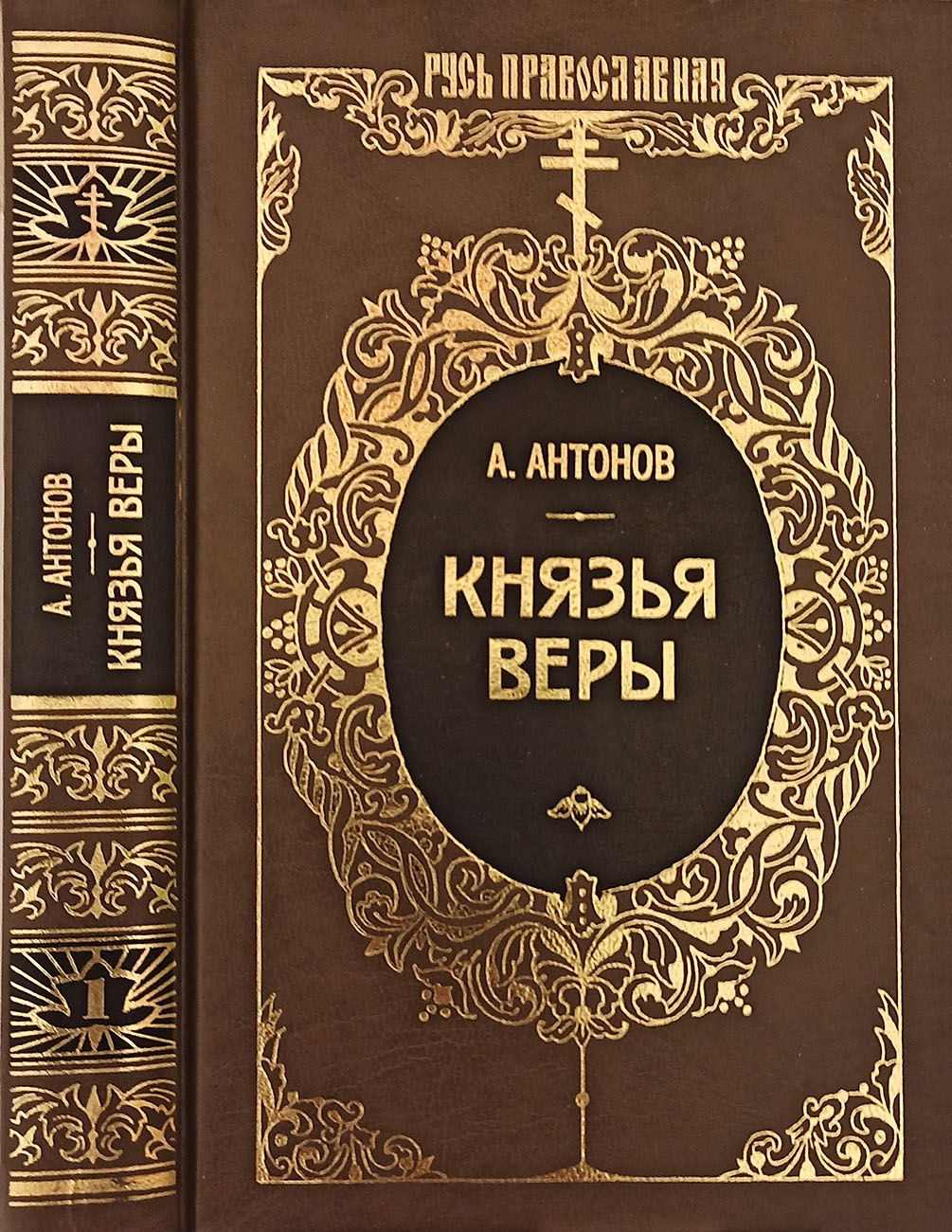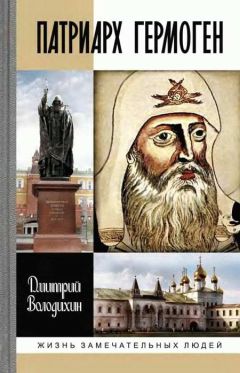к воротам. Стрельцов охватил страх, дрожащими руками они подняли решётку и побежали из Кремля. Сильвестр не мешкая погнал лошадей, но Салтыков схватился за саблю и бросился на Сильвестра. Ведун увернулся от удара и перехватил князя за руку, сабля упала на землю, а рука князя налилась свинцом и плетью повисла вдоль тела. Гермоген выехал из Кремля, Катерина, Ксюша и Сильвестр сели в возок, и кони помчали в сторону Данилова монастыря.
А пока ехали, Гермоген пришёл в себя от переживаний за судьбу ближних и задумался. Да и думал недолго. Понял он, что сам не имеет права покидать Кремль. Там его боевое место. И лишь только приехали в монастырь и патриарха встретил архимандрит Ефимий, он поручил тому Катерину и Ксюшу, попросил их уберечь от татей и вернулся в возок, велел Николаю гнать лошадей обратно в Кремль. Он даже не позвал с собой Сильвестра. Но ведун, попрощавшись с Катериной и выложив из возка добро, укатил следом за патриархом.
Утром, лишь рассвело, Гермоген появился в Успенском соборе. Он был в торжественной святительской голубой мантии, в клобуке, с панагиями и животворящим крестом, с посохом святого Петра. В соборе было людно, все ждали слова патриарха. Он же тропарь Пресвятой Богородице зачал:
— «Днесь спасения нашего главизна и еже от века таинства явлений Сын Божий, Сын Девы бывает...»
И началось движение крестного хода. Услужители поспешили за осляти, священники выносили чудотворные иконы, хоругви, выходили на Соборную площадь. Туда же сходились священнослужители из других соборов и церквей, из монастырей Кремля.
И ляхи в тот же час зашевелились. По Кремлю зазвучали команды. Уланы бежали в конюшни, седлали лошадей, скакали на площади, сотнями покидали Кремль, занимали улицы близ Красной площади: Тверскую, Моховую, Пречистенку. Там пушкари затаились возле спрятанных и заряженных пушек — все ждали боевых команд.
Гермогену привели низкорослого бахмута в белом чехле с длинными ушами. Это и был «осляти». Патриарха усадили в седло. Князь Гундуров взял коня под уздцы и повёл его на Красную площадь. Процессия медленно двинулась следом. И зазвучало пение псалмов. На пути шествия попадались редкие нищие, юродивые, блаженные и совсем мало было видно горожан. Город будто вымер. Всё было не так, как в прежние времена: уныло, прискорбно. Но Гермоген ехал с гордо поднятой головой, ветер трепал его белую бороду. Поляки, что стояли пообочь мостовой, ловили на себе суровый, а то и гневный взгляд патриарха.
Гермоген следил за поведением поляков. Уланы и их командиры вели себя спокойно. И не было похоже, что они таят в себе злой умысел, что им велено напасть на мирное христианское шествие. Да Гермоген не мог знать, что поздним вечером накануне Жолкевский и Гонсевский отменили свой приказ, потому как решились на другое, ещё более жестокое злодеяние.
Не знал планов поляков и князь Михаил Салтыков, наблюдавший за крестным ходом с Никольской улицы. Он почернел от ярости: почему поляки не начинают побоище, как договаривались? Кто заставил поляков отказаться от задуманного?
И крестный ход завершился мирно и тихо. И горожане, что табунились скрытно по дворам с припрятанным оружием, стали расходиться по домам, ещё не ведая, что им осталось лишь два дня безмятежной жизни. Над Москвою собирались грозовые тучи.
И в понедельник в Москве ещё было тихо. Но ощущение грозы нарастало. Вездесущий Сильвестр к вечеру вернулся в палаты с торжища на Варварке. Там теперь больше торговали слухами. Брали за них мало, разве что ковш пива или браги. Но цена слухам большая была. Узнал Сильвестр, что к Москве подошло ополчение из Рязани. Привёл его боярин Прокопий Ляпунов. Да близ Серпуховской заставы появился с калужанами князь Дмитрий Трубецкой. А ещё спешил с ратью из Владимира князь Литвинов-Мосальский.
Сильвестр не жалел за добрые вести и чарку водки. Подошёл к нему ярославский мужичишко, холоп боярина Ивана Волошина, и сказывает:
— Тебя, слышу, новина волнует. На сугрев дай, так и порадую.
— Держи алтын, — не поскупился драному мужичишке Сильвестр.
— Идёт мой барин из Ярославля да князь Козловский из Романова, а с ними по тысяче воев с огненным снарядом и пушками.
С такими добрыми вестями и поспешил Сильвестр в палаты патриарха. Да в Кремль ему войти было непросто, нужно обдурить стражу, потому как князь Салтыков не велел его впускать. На сей раз Сильвестр лубяной короб с пирожками купил. Да торговца заставил их в Кремль нести, сам рядом шёл, у ворот крикнул:
— Эй, браты, отчиняйте, угощение несу! — И угостил стражей тёплыми пирожками. А что осталось, другим стражам понёс, что стояли у патриаршего двора. Пришёл в палаты и не мешкая выложил новости. Гермоген радовался каждой доброй вести, с гордостью говорил:
— Русь проснулась! Единый Вседержитель ведёт свою паству на еретиков, скоро не быть им в первопрестольной.
— Да вижу, и мне пора саблю точить! — задорно сказал Сильвестр.
— Пора, сын мой! Пора. И, уповая на Всевышнего, завтра, во вторник страстной недели, и начнём. Изготовились москвитяне и по зову набата возьмут в руки оружие, пойдут воевать ляхов в Китай-городе, — раскрывал карты Гермоген. — И сам ты, сын мой, завтра с рассветом поднимешься на колокольню церкви Благовещения Богородицы, что на Житном дворе и ударишь в «Горлатного», как солнце взойдёт.
— Всё сделаю, владыко, как велишь, — ответил бодро Сильвестр.
— Верю. А теперь иди к архимандриту Дионисию и верши с ним всё по нашим метам. Он скажет, что делать.
— Иду с твоим именем на устах.
Патриарший приказ, палаты которого находились в Кремле, ещё действовал. Но появившийся в Москве гетман Струсь решил его закрыть, чтобы занять помещение для постоя своих солдат. Архимандрит Дионисий, исполнявший в приказе волю патриарха, сходил к Гонсевскому и потребовал защитить его от разбоя Струся.
— Как можно быть церкви без приказа, как епархиями руководить?! — доказывал Дионисий коменданту.
Пан Гонсевский «защитил» приказ скрепя сердце. Знал он, какие грамоты рождаются в стенах Патриаршего приказа по воле Гермогена.
— Вот как поймаю дьяков с разбойными грамотами, так и отдам тебе сей приказ на расправу, — утешал потом Гонсевский Струся.
Архимандрит Дионисий узнал об этой угрозе, что над дьяками занесён меч. И призывал их быть осторожными. И до страстной недели они продержались. А в понедельник весь день дьяки размножали грамоты-воззвания. Их написал Дионисий в сильных выражениях, пронизанных благочестивыми призывами. Да был в воззвании и гражданский смысл. «Вспомните, — вещал Дионисий, — сколько