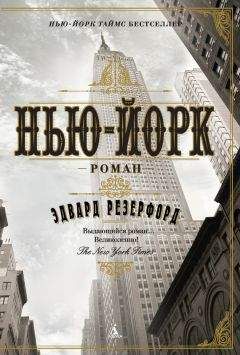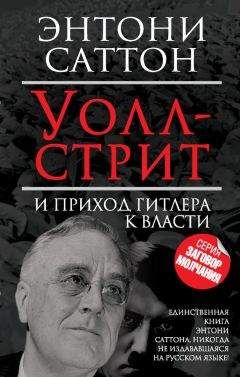Хетти же постепенно, не желая того, стала меньше думать о муже. А он, чувствуя, что ее уважение к нему уменьшается, несколько отгородился. Иногда у них возникали споры. Было верно, к примеру, то, что ряд городских купцов и банкиров, тронутых моральными аргументами проповедников, примкнул к аболиционистам. Но большинство – нет. Нью-Йорк перевозил хлопок, обеспечивал финансы и продавал рабовладельческому Югу товары всех мыслимых видов. Что же, Фрэнку предложить своим друзьям разориться? Хетти ответила, что пусть найдут себе другой промысел.
– А взять англичан! – напомнил он. – Они полностью против рабства, но их бумагопрядильные фабрики не закрываются, потому что хлопок собирают рабы.
– Значит, они достойны презрения, – ответила она.
Фрэнк испытал смешанное чувство обиды и раздражения, ибо эти обвинения, как он счел, могли в той же степени быть адресованы и ему.
На протяжении нескольких лет, пока отношения между Севером и Югом ухудшались, он отказывался поддаваться всякому краснобайству. И когда великий раздор не только пошел по штатам, но и зазвучал на территориях за их пределами, Фрэнк настоял на холодном рассмотрении вопроса, как если бы речь шла о практической проблеме машиностроения.
– Я люблю железные дороги, – сказала однажды Хетти, – но дело в том, что именно железные дороги породили всю эту беду.
Никто не спорил с тем, что Средний Запад нуждался в железнодорожном транспорте, и в 1854 году отцы города Чикаго сочли, что пришла пора строить трансконтинентальные линии через необъятные и дикие просторы Канзаса и Небраски. Единственной проблемой было то, что ни одна железнодорожная компания не собиралась вкладываться в строительство, пока конгресс не придаст этим землям положенный статус. И жаль, конечно, подумал Фрэнк, что после борьбы конгресс поддался давлению Юга и допустил установить на них рабство. «Дурацкое решение, – заметил он, когда это произошло. – Там и рабов-то нет, а большинство поселенцев вообще их не хочет». Но это была политика, и реальность не принималась в расчет. Политика перегретых Юга и Севера возобладала в мгновение ока.
«Небраска тянется до самой канадской границы! – посетовал Север. – Южане-рабовладельцы задумали обойти нас с фланга!» Когда же с целью огородить территории от рабства была создана новая, Северная Республиканская партия, ее вожаки, включая Авраама Линкольна, вскоре уже открыто задавались вопросом: не попытается ли Юг сделать рабство законом для всего государства? С Юга несся рев Демократической партии: «Эти северяне отменят рабство и сделают несчастного белого человека не лучше черномазого!»
Иные предложили наделить территории правом самостоятельно решить, быть им свободными землями[40] или узаконить рабство. Северные реформаторы направили в Канзас поселенцев из свободных земель, а Юг ввел туда же рабовладельцев. В скором времени начались массовые убийства. В самом Вашингтоне представитель южан врезал набалдашником трости по голове сенатору Севера.
И вот тогда, в час поистине роковой, Верховный суд преподнес Югу неожиданный подарок. В своем решении по делу Дреда Скотта он объявил, что конгресс не имеет права запрещать рабовладение на какой бы то ни было территории, а отцы-основатели и в мыслях не имели превращать чернокожих в граждан. Даже Фрэнк был потрясен. Хетти пришла в неописуемую ярость.
Наконец, чтобы подлить масла в огонь, Джон Браун совершил налет на арсенал в Харперс-Ферри, штат Виргиния, питая глупую надежду поднять восстание рабов. Затея была обречена на провал изначально, и Брауна повесили. Но Хетти моментально заявила Фрэнку:
– Джон Браун – герой.
– Он не герой! – возразил Фрэнк. – Он сумасшедший! Его атака на Харперс-Ферри была безумием! Похоже, ты забываешь, что он и его сыновья уже хладнокровно убили пятерых только потому, что те выступали за рабовладение!
– Это ты так говоришь.
– Потому что это правда.
В начале 1860 года отношения между Севером и Югом были скверны, как никогда. А Фрэнк прикинул и решил, что есть дополнительный фактор, который еще сильнее расшатывает ситуацию.
Фрэнк Мастер прожил достаточно долго, чтобы осознать наличие в огромной трансатлантической экономической системе своих великих циклов, подобным погодным. Она описывала круги от спада к расцвету и с каждым новым неизменно прирастала, однако через каждые несколько лет случались кризисы, купцы разорялись, но если проявить благоразумие, то спад мог быть таким же доходным, как и взлет.
Трансатлантическую систему уже какое-то время трепал шторм. Но пострадали не все – его собственный бизнес даже процветал. Однако кого не задело вовсе, так это крупных плантаторов с Юга. Спад ли, подъем, а мир, похоже, все больше нуждался в хлопке. Крупным плантаторам никогда еще не жилось так хорошо.
«Хлопок – король», – победоносно говаривали они и были так уверены, что с Югом им все нипочем, что даже раздавались голоса: «Если янки выберут республиканца, желая нас разорить, то к черту Союз! Пусть Юг будет сам по себе».
На Севере, разумеется, мало кто воспринял это всерьез.
– Фанфароны с Юга городят вздор, – презрительно говорила Хетти.
Но Фрэнк был не столь уверен в этом.
По его мнению, грядущие президентские выборы могли оказаться опасным мероприятием. О чем бы там ни писали в «Чикаго трибьюн», ему представлялось маловероятным выдвижение кандидатуры Линкольна от республиканцев. Несомненно, что у других шансы выше. Но тем не менее ему стало весьма любопытно взглянуть на этого субъекта и разобраться, что он за птица.
Огромный темно-красный массив Куперовского института занимал треугольный участок между Третьей авеню и Астор-плейс. Фрэнка всегда восхищал его основатель Питер Купер, промышленник-самоучка, который построил первую в Америке железнодорожную паровую машину, а после основал этот великолепный колледж с бесплатным вечерним обучением для рабочих-мужчин и дневным – для женщин. Самое сильное впечатление на Фрэнка производил Большой зал. Он был построен лишь в прошлом году для официального открытия института, но успел стать одним из самых популярных мест для разнообразных собраний.
Они пришли заблаговременно – и правильно сделали, потому что зал стремительно заполнялся. Оглядевшись, Фрэнк наскоро прикинул и сказал Хетти:
– Твой Линкольн собрал изрядную толпу. Сегодня здесь будет полторы тысячи человек.
Минуты текли, и Хетти с совершенно счастливым видом рассматривала публику. Повсюду обнаруживались ее знакомые. Фрэнк удовольствовался тем, что постарался как мог припомнить отчеты о дебатах Линкольна и Дугласа. Немного времени спустя он не удержался и заговорил:
– Насколько я понимаю, Хетти, мистер Линкольн ратует за свободу и равенство для чернокожих?
– Безусловно.
– Однако я точно помню, что в Иллинойсе он заявил, будто ни в коем случае не позволит им голосовать и заседать в жюри. Что ты на это скажешь?
Хетти невозмутимо взглянула на него:
– По-моему, все очень просто, дорогой. Скажи он иначе, его бы не выбрали.
Фрэнк только собрался заметить, что она, когда ей нужно, легко договаривается с собственной совестью, но начавшееся движение в боковой части сцены свидетельствовало о начале мероприятия.
Джентльмен, представлявший оратора, не стал затягивать вступление. Прозвучали скупые вежливые слова о достойном госте, была выражена надежда на то, что публика окажет ему доброжелательный прием и заинтересуется его речью. Он повернулся, приглашая оратора. И появился Авраам Линкольн.
– Господи! – ошеломленно пробормотал Фрэнк.
Он видел в газетах пару портретов Линкольна и счел их неприглядными. Но ничто не подготовило его к тому шоку, который он испытал при виде Линкольна во плоти.
Деревянной походкой и чуть сутулясь сцену пересек очень высокий (как минимум шесть футов и четыре дюйма, по прикидкам Фрэнка), тощий темноволосый человек в длинном черном сюртуке. Одна паучья рука висела, вторая была согнута, ибо в своей лапище он держал пачку бумаг. Дойдя до кафедры в центре сцены, он повернулся к толпе. И Фрэнк чуть не ахнул.
Складки на гладко выбритом лице Линкольна были так глубоки, что казались расщелинами. Из-под косматых бровей на публику тяжело и будто бы безнадежно смотрели серые глаза. Фрэнк подумал, что в жизни не видел такого скорбного лица. Заложив руки за спину, Линкольн еще секунду-другую сверлил общество взглядом. Затем заговорил.
И тут Фрэнк скривился. Невыносимо. Этот долговязый, нескладный субъект издавал звуки столь тонкие, скрежещущие и в целом неприятные, что они резали слух. Хотелось, чтобы он замолчал. И этого человека чикагские газеты прочили в президенты? Но деваться было некуда, пришлось слушать. И чуть погодя Фрэнк отметил несколько вещей.
Во-первых, Линкольн не стал прибегать к высокопарной, эмоциональной риторике. Просто и буднично, в выверенной адвокатской манере, он выдвинул первый аргумент. И вот какой.