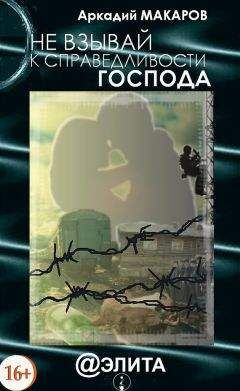И… тишина оживает.
Чу! Слышится звук лёгкого поцелуя, – это батюшка Дон в полусне целует благодатную матушку Землю.
Очнувшись от долгого ночного морока, закачались заросли тростника в тихой заводи.
Хорошо и сладко зевнуть в кулак, поглядывая на звёздный икромёт по чёрной воде.
Там у самого дна губастая неповоротливая, брюхатая сомиха чешет жирные бока о густой частокол камыша, беспокоя увёртливых и стремительных, как пули, литых окуньков.
По-русалочьи всплеснулась, задремавшая было щука, выгоняя на берег своих щурят ловить мышей по обильной росе.
Вышел на охоту степенный сом, распустив, свои казацкие усы. Ему бы ещё люльку в зубы… Да он и так самый настоящий донец, ничего не скажешь!
Ползает по чистому, промытому песку головастый дедушка налим, оглаживает на протоке, причмокивая от удовольствия, свою увеличенную от излишеств тяжёлую печень.
Жизнь, она везде – жизнь…
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Вдруг в густых, тёмных под луной, зарослях прибрежного тальника резко, как в палец иголка, вскрикнет во сне какая-то птаха.
Приснилось ли что бедной маленькой певунье? Может лупоглазый филин или ястреб-быстрое крыло её растревожил, как знать? Прокричала, стряхивая с крыла первую росу, прокричала и успокоилась.
Дон… Дон… Дон… Слышите колокольный отзвук в этом имени, коротком, как русский православный путь в небо.
Плавая на баркасе по затопленным луговинам, можно увидеть, как нагуливаются на просторе покрытые стальной чешуйчатой бронёй пудовые сазаны, взять которых может только горячий свинцовый жакан.
Дон в половодье огромен. Он, как подгулявший казак, только не рвёт на груди рубаху, а ревёт и выходит из стеснивших его берегов во всю бескрайнюю русскую ширь, заполняя собой глинистые отроги и заросшие терновыми и вишнёвыми кустами лога и овраги.
И тогда, действительно, как у Гоголя, редкая птица долетит до его середины…
Кирилл поставил недопитую бутылку на стойку, стряхнув сладкие воспоминания.
Может быть, они заставили торкнуться очерствевшее сердце во что-то мягкое и нежное, а может та пожилая учительница: он и сам не мог сказать определённо. Кто она ему? Ни мать, ни родная тётка и вовсе даже не далёкая родственница. Ну, жил у неё какое-то время… Общался. Ел за одним столом её неприхотливую пищу. Вёл по вечерам долгие сладкие разговоры о жизни, о религии, в которой чувствовал себя сторонним человеком и страшился этого. Загадывал загадки на будущее и отгадывал их… Да мало ли о чём можно поговорить с умным человеком, спокойно доживающим свой век.
Да и сам Назаров был далеко не глупым человеком, даже иногда, обернувшись назад к своей прошумевшей юности, писал стихи:
Материнских не помня заветов, оглянулся – цветёт трын-трава!
На холодное сердце, на ветер я ронял дорогие слова.
Немотой перехвачено горло. Все длиннее годов моих ряд…
Вон старуха, согнувшись, упёрла в сыру-землю безропотный взгляд.
Шапкой Бог с поднебесья ударил, или только почудилось мне?
Что ты, бабушка там увидала, под собой на два метра в земле?
– Не глумись! – услыхал, – нечестивец! Что ты трогаешь душу мою?
Тебе жить ещё в мире, счастливец! Ну, а я на исходе стою.
Я последний свой срок разменяла. Воздала палачу и судье!
Разменяла свой срок, растеряла, ничего не оставив себе.
Сына взяли Великие стройки. Муж погиб на Великой войне.
След ищу я слезы своей горькой под собой на два метра в земле.
…В чистом поле безлюдно и пусто. Нету бабки! Вся в землю ушла.
Лишь под звёздной, высокою люстрой тихий свет источает душа»..
Писал, как писалось…
Павлина Сергеевна! Павлина Сергеевна, – здравствуй!
…Жить в деревне – одно удовольствие! Правда, если житьё это временное и непродолжительное.
Здесь искушённого городского жителя сразу оглушает тишина, как будто в твоих ушах ватные затычки, или нет, – положили на бабушкину перину и накрыли голову пуховой подушкой – отдыхай, дорогой!
Потом эта тишина начинает тебя раздражать, давить на грудь, пеленать по рукам и ногам.
Привычная звуковая информация не поступает в мозг, и ты начинаешь, как локатор, как радарная установка, ловить любые звуки и шорохи: вот где-то далеко-далеко, на молочно-товарной ферме истошно завопила машина, наверное, самосвал привёз зелёнку для колхозного стада, и сигналит скотнику, вечно не просыхающему Егору, чтобы тот, очухавшись от вчерашнего, приступил к раздаче корма вечно голодным коровам, которые почему-то и в разгар лета находятся на стойловом содержании.
В самый сенокос новый председатель агрокомплекса сочной зелёнкой надеется поднять удои катастрофически снижающегося поголовья товарного стада.
Но, несмотря на корма, глупые коровы мало и неохотно отдают своё, молоко с низким процентом жирности и жидковатым на вкус. А вот у личной коровы, у того же пьяницы Егора, корова доиться хорошо и молоко совсем иного свойства – ночь в холодильнике подержишь, на утро ложка торчмя стоит.
Вроде корма одни и те же, с одного места привезённые, а результат разный.
…Павлина Сергеевна, Павлина Сергеевна! Учительница детства моего!..
Вот Кирилл и в деревне!
Попробуй, докажи здесь свою состоятельность, устав от противной городской суматохи, от забубенных встреч с друзьями-приятелями, такими же, как и ты сам, с бесконечными, заводными разговорами о женщинах, о суетливости нынешних, корыстных политиков, об импотенции власти.
По вечерам хорошо. А утром, просыпаясь, чувствуешь свою ничтожность, свою невостребованность летящим, как скоростной поезд, временем – мимо, мимо, мимо!
Павлина Сергеевна, наверное, умаявшись от надоедливой старости и глухого одиночества, приняла Назарова, как родного с раскрытыми руками:
– Ну, вот… Ты опять здесь. Дома. Мальчик мой! – Старая женщина, не имея своих детей, по своей учительской привычке назвала его мальчиком, как будто Кирилл когда-то давно был её учеником. – Постарел, постарел. Вон и волоски седые уже, – смотрела она на гостя сквозь свои учительские очки, участливо и ласково покачивая головой. – А я вспоминала, вспоминала тебя. Ну, думаю, на это лето обязательно приедет. Смотрю – нет, не пылит дорога! На другое лето жду. Опять никого! А тут, вот, объявился… Где жить-то будешь? В доме, или опять в сарае стелить? Он после тебя теперь, как новый стоит. Крыша из твоего шифера уже не течёт. Я вся у тебя в долгу. И за работу, и за материал. Думала – расплачусь с пенсии, а ты, как раз уехал. Вот старая! – спохватилась она, усаживая Кирилла за стол. – Я тебя сейчас рябиновкой угощу. Самодельной. Не какой-нибудь ельцинской отравой из ларька, а свойской, целебной. Враз грусть-печаль развеет! Я сейчас, сейчас! – торопливо зашмыгала она по комнате.
На столе появился толстенький графинчик старинного гранёного стекла с настойкой коньячного вида, на дне которого медленно шевелились оранжевые бусинки прошлогодней рябины.
На раскалённой сковородке скворчала и пузырилась яичница в домашней ветчине, посыпанная сверху мелко нарезанным зелёным лучком.
Кирилл тоже выложил свои кое-какие гостинцы на стол.
Ну, теперь у нас пир на весь мир!
Павлина Сергеевна, угомонившись, присела на краешек стула, радостно поглядывая на гостя.
Гость налил хозяйке в протянутую маленькую мензурку из-под лекарства, рябиновки, потом наполнил для себя по самым краям большой фужер тонкого розового стекла и поднял его.
– Ну, с приездом тебя Кирюша! – опередила его Павлина Сергеевна и медленно выпила свою махонькую рюмочку-мензурку, пожевала губами и, не закусывая, смутившись, пошла к двери. – Ты пей, ешь! Я сейчас!
Что говорить о настойке, которая сродни подвянувшему осеннему букету, и порождает те же чувства – грустные ощущения скоротечности всего сущего. Оставленная навсегда молодость заголосила беззвучным плачем:
«…Лихая память захлебнётся болью…
Надежды где? Где молодость? Где мать?
Небритый кактус на окне ладонью
прощальный луч пытается поймать».
Кирилл, смахнув соринку с ресниц, посмотрел на остывающее от жаркого дня окно, где зелёным котёнком, вставшим на задние лапы, а передние, прижав к стеклу, тосковал о жаркой мексиканской пустыне нелепый для наших мест цветок в красной глиняной посуде.
Пить в одиночку Кирилл не умел, а без выпивки всякая закуска – просто еда.
А есть, ему уже расхотелось.
Он, скучая, разглядывал комнату, оклеенную всё теми же обоями в мелкий цветочек, теперь уже посеревшими от времени.
Он тогда всё хотел обновить стены, старался угодить хозяйке – здесь и делов-то на день!
Но тётя Поля не разрешила: «Я к этим цветочкам привыкла, они ещё с того времени…».
С какого «того времени», Кирилл уточнять не стал, старость сентиментальна.
Его размышления прервал бодрый топот на веранде и низкий, прокуренный голос соседа Михаила, с которым они сдружились, поднимая из руин старый сарай Павлины Сергеевны, где Кириллу в прошлый приезд так хорошо спалось.