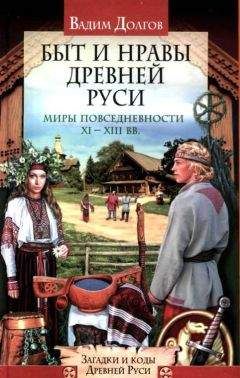Княжеские уставы и перечни покаянных вопросов дают основание думать, что в той или иной степени колдовством могли заниматься почти все. Существовал некий набор несложных магических средств, воспользоваться которыми мог любой желающий, если в этом возникала необходимость, превышающая страх церковного наказания. Так, наиболее древний из опубликованных А. Алмазовым вопросников, помещенный в пергаментной рукописи XIV в., среди пунктов, посвященных половым девиациям, содержатся несколько описаний несомненно магических действ. Вопросы адресованы «женамъ». «Ложе детиное или скверны семенъныя ци окушала? Или снела будешь ложе свое? Мужа от жены ци отмолвила еси, или жену от мужа?» Не вполне понятно, для чего женщина могла есть свое или «детиное» «ложе» или семя, но в целом не вызывает сомнения, что в данном случае мы имеем дело именно с колдовством, а не сексуальной невоздержанностью. Это были формы «зелейничества» — использования магических снадобий (в данном случае принимаемых внутрь) для достижения каких-то неблаговидных целей, о которых источник умалчивает. Словесные колдовские формулы шли в дело при «отговоре» жены от мужа или мужа от жены. Подобного рода «заговоры» или «заклинания» известны и по этнографическим материалам.
Вообще женщина согласно древнерусским источникам обращалась к волхвованию («вещьству», в терминологии некоторых вопросников) в трех случаях. Во-первых, для предотвращения или избавления от последствий нежелательной беременности (упоминание об использовании «зелья» с этой целью часто встречается в рассматриваемых перечнях). Во-вторых, для сохранения или поправки здоровья (своего и ребенка). И наконец, в-третьих, нередко, очевидно, практиковалась любовная магия. Описание незамысловатого обряда находим мы в рукописи XV в. «Или мывшиси молоком или медом давала пити милости деля?» Возможно, что и неясные действия, описанные в тексте XIV в., имеют то же назначение.
Согласно «Слову святого Георгия изобретено в толцехъ его, о томъ како первое погани сущее языци кланялися идоломъ, и тербы имъ клали иже ныне то творять» какое-то простенькое домашнее колдовство совершалось во время гигиенических процедур: «ногти обрезавшее кладуть и за налра мецають, а ножнии на голову», и по ходу приготовления пищи: «пиво варящее соль сыплють в кадь, и уголь мечють, забывшее Бога, створившаго небо и землю», «ножемъ крестять хлебъ, а пиво крестять чашею, и а иным чимъ».
Набор заклятий, бытовавший в простонародной среде в XIX–XX вв., еще более обширен. Они широко использовались не только в народной медицине («С гуся вода, с тебя худоба»), но и в ходе сельскохозяйственных работ («Уродись, пшеничка, горох, чечевичка», «Ей, туча, ей — не иди на косарей»). Вероятно, многие из «заговоров» и «заклятий» были сохранены традиционной культурой с очень древних времен.
Такое «домашнее» колдовство, конечно, тоже не одобрялось церковью. Но ни о каких жестоких преследованиях не было речи. Например, в наказание за описанный выше способ достижения «милости» полагалось пять недель поста, и только. Несколько более серьезное наказание за ношение «наузов» — двухлетний пост. Но и такая мера может считаться достаточно легкой по сравнению со сжиганием на костре, широко практиковавшимся в Западной Европе периода «охоты на ведьм». Сам факт, что вопросы о волхвовании содержатся в исповедальных уставах, предполагает такое положение, когда человек, втайне занимавшийся магическими манипуляциями, мог вдруг раскаяться, захотеть очистить совесть и, выполнив церковное наказание, привести свой моральный облик к установленному образцу. Значит, ничем особенно страшным признание в колдовстве не грозило. И это понятно. Церковь была заинтересована в возвращении такой «заблудшей овцы» в ряды организованной паствы, тем более что особенной опасности такие самодеятельные маги не представляли. Не было, следовательно, необходимости в суровых мерах, которые неизменно использовались против волхвов более серьезного уровня.
«Помолися к Богу и, выня мечь свои…» «волшебные» предметы. Важной и характерной чертой средневековой религиозности было широкое распространение веры в магические свойства материальных предметов. Как и вера в колдовство, это явление досталось в наследство Средневековью от эпохи более ранней. Истоки его лежат в первобытном фетишизме, который получил распространение во всех религиозных системах по всему миру. Не были исключением и древние славяне. Они поклонялись камням необычной формы, рекам, озерам, колодцам, рощам и отдельным деревьям. Археологическим подтверждением фетишизма у восточных славян является знаменитая находка дуба, который в древности стоял на берегу Днепра, но где-то в середине VIII в. в результате подмыва упал в реку, погрузился в ил и был найден в ходе строительства Днепрогэса. В стволе дуба оказались вбитыми кабаньи клыки. Дуб с клыками, несомненно, — объект культа. Таким образом, дерево было священным предметом, служившим, быть может, атрибутом бога-громовержца Перуна, связь которого с дубовыми рощами прослеживается по разным источникам.
С принятием христианства древние формы почитания предметов ушли в прошлое, оставив, однако, немало следов в религиозной сфере населения средневековой Руси. Проявлялось это и в некоторых формах православного культа (где элементы фетишизма существовали изначально), и в особенностях религиозной психологии. Если современный человек понимает святость и священную силу прежде всего как абстрактное морально-религиозное состояние, то сознанию человека эпохи раннего Средневековья необходимо было облечь сакральную энергию в зримые формы, которые бы дали возможность оперировать ею в повседневной жизни, как любой другой ценностью.
Поэтому мир человека Древней Руси был наполнен «волшебными» предметами разного назначения и разной «мощности». Эти вещи служили своего рода аккумуляторами магической силы. Очевидно, что представление о магических орудиях было продолжением представлений об орудиях и оружии обыкновенном. Разница была лишь в том, что «обыкновенные» орудия давали дополнительные средства для достижения целей в мире профанном, а «волшебные» — в тех сверхъестественных сферах, которые, пронизывая жизненное пространство, незримо влияют на жизнь человека. Часто «волшебная» составляющая дополняла прагматическую. Таково, например, было «волшебное» оружие. Магия в древности, в том числе и у славян, была орудием ведения боевых действий ничуть не менее важным, чем «настоящее» оружие.
Древнерусские мечи
Наиболее известным на Руси мечом в христианскую эпоху стал меч св. Бориса. Владельцем его был князь Андрей Боголюбский. Летописное описание сцены убийства князя в 1175 г. показывает, что он держал его всегда при себе не просто как реликвию, но как настоящее оружие. Ключник Анбал позаботился, чтобы в решающий момент меча под рукой Андрея не оказалось, вытащил его, и князю нечем было обороняться. «То бо мечь бяше святаго Бориса», — специально уточняет летописец.
Магическая сила оружия «включалась» в трудные моменты битвы. В летописи под 1149 г. содержится рассказ о том, как тот же Андрей в ходе сражения под Лучском оказался «обиступлен» врагами и вынужден был уходить от погони на раненом коне. Когда казалось, что гибель неминуема, князь Андрей производит следующие действия: он «помолися к Богу и, выня мечь свои, призва на помочь собе святаго мученика Феодора». В результате все закончилось благополучно. Обращение к Богу за защитой в описанной ситуации понятно. Призвание св. Феодора далее объяснено летописцем: «…бысь бо и память святаго мученика Феодора во тъ день». Но зачем князь вынул меч? Из текста следует, что возможности фехтовать в описываемый момент Андрей был лишен — речь шла о том, чтобы как можно быстрее достичь «своих». Конструкция фразы наталкивает на мысль, что обнажение меча было не только жестом устрашения и демонстрации боевого духа, но и магическим актом, поскольку оно было поставлено летописцем между обращением к Богу и к св. Феодору. Возможно, уже тогда Андрей был владельцем меча св. Бориса. После смерти Андрея меч хранился в одной из церквей г. Владимира.
В Древней Руси сложился культ княжеских мечей. Причем совсем не обязательно первый прославленный владелец должен был быть святым. В Троицком соборе Пскова хранились и дошли до наших дней мечи псковских князей Всеволода Мстиславича и Довмонта. По мнению А.Н. Кирпичникова, «меч Всеволода», скорее всего, более поздний. Он заменил собой меч XII в., который был установлен в 1137 г. над могилой Всеволода: «поставиша над ним его меч, иже и доныне стоит, видим всеми». «Меч Довмонта» гораздо более похож на настоящее оружие XIII в. Об этом свидетельствуют элементы оформления и наличие подтверждающего иконографического материала. Возможно, что именно этим мечом священнослужители Пскова опоясывали князя перед походом на немцев, а позднее горожане символически вручали князьям при посажении на псковский престол.