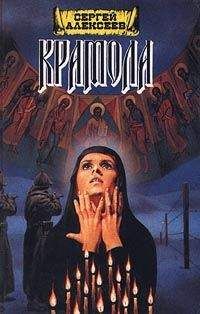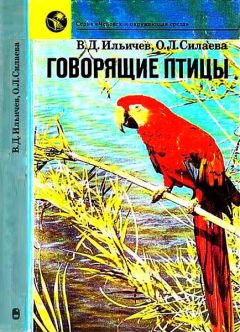— Простил, Коля, — признался Андрей Николаевич. — И жить нам надо теперь только так — простить все. Чтобы мне все простилось, чтобы я все простил. Не будет у нас такого дня Всепрощения — ничего не изменится. И снова загорится злоба, выплеснется обида и польется кровь. Когда же будет конец?.. И ты попытайся простить Деревнина. Простишь — человеком станешь.
— Не могу я, дед. — Он крепче обнял Андрея Николаевича, словно хотел спрятаться. — Перед глазами стена, люди и он…
— А ты попробуй, — попросил Андрей Николаевич. — Вспомни, какой он жалкий, несчастный… Приглядись к нему и увидишь такое горе! Ведь он, Коля, без пути и без доли. Присмотрись, и не захочется тебе больше возмездия. Он несет самое страшное наказание; он не может разделить участь своего народа. Для него бы сейчас легче самому к той стене встать. Насильная смерть — это не путь для него. И суд — тоже. Он давно привык к насилию. Но твое прощение станет ему началом пути. Дай ему возможность хоть перед смертью человеком по белому свету пройти.
— Я тебя совсем не понимаю, — сокрушенно проронил Коля.
— Сразу трудно понять, — согласился Андрей Николаевич. — Но ты доверься мне. И последуй совету. А потом все-все поймешь.
— Ладно, я прощу. Но как же те, которых он… Как они там, в ямах? Безвинные! — Коля отступил от деда. — Как перед их памятью? Имею ли я право такое? Да они там перевернутся в могиле!
— Вот если не простишь — перевернутся. Они безвинно пострадали, а потому сейчас как святые. Святые же, Коля, мученическую смерть принявшие, прощают всех нас, живущих, в миг самой смерти. И своих палачей прощают. Чтобы зла на земле убавилось. А ты сейчас злобишься и этим тревожишь мертвых.
— Я тревожу? — изумился внук и отступил еще на шаг. — Ну, дед, это уже ни в какие ворота… Да они, мертвые, просят мщенья! И пока эта тварь по земле ползает!..
Он не договорил, отвернулся, обидчиво закусив губу. А Андрей Николаевич еще чувствовал тепло и близость рук внука, только что отнятых от плеч. Чувствовал и жалел, что оборвалась эта близость.
— Да, конечно, я не вправе учить тебя, советовать, — проговорил он со вздохом. — Потому что виновен перед тобой. И вины мне не искупить. Мы с тобой связаны, Николай. Не думал, что так крепко… Я хотел радости от тебя, но, видно, и этого мне не отпущено.
— Только не надо так печально, — буркнул внук. — И так на душе…
— Хорошо, не буду, — согласился Андрей Николаевич. — Хотя и в самом деле все очень печально. Неужели мы так и не научимся прощать?
Коля ничего не ответил. Потупясь, он разглядывал землю, вытоптанную, сорную, и в глазах его, будто слезы, копилась обида. Наверное, он злился, что разговор с дедом оказался другим, не таким, как ему хотелось, и вместо уверенности в своей правоте получил одно разочарование. Ко всему прочему, дед будто еще больше отдалился и почужел. Андрей Николаевич чувствовал все это, но одновременно понимал и то, что внука сейчас не переубедить, не вразумить его, поскольку он уже шел по знакомому пути, на котором все постигается только мордой об лавку.
По-прежнему обижаясь, Коля сел в машину и запустил двигатель. И, ожидая, когда он прогреется, смотрел сквозь стекло пытливыми и одновременно безучастными глазами. Возможно, глядел на деда, а думал о своем.
— Неужели только в смерти будем прощать? — спросил Андрей Николаевич и пошел к машине. — Погоди, так нельзя жить. Мы ведь катимся вниз, мы скоро одичаем, Коля!
Внук сдал машину назад и, очертив вокруг деда круг, поехал старой, когда-то наезженной, но уже зарастающей дорогой…
Скорее всего, сенбернара сняли бы с довольствия и расстреляли сразу же после первого случая, когда он проявил свой мягкотелый характер. Однако начальник лагеря оценил его способности ходить по следу и отыскивать спрятавшихся заключенных. Бежали на волю в основном таким способом: отчаявшийся просил товарищей прикопать его землей на дне канала либо в обваловке, и когда людей выводили с работ в лагерь, он выбирался на свет Божий и шел искать лучшей доли, чаще смерти своей. Однажды после работы по дну канала пустили сенбернара, и он в считанные минуты отыскал двух, зарывшихся в землю. Один успел выскочить и тем спасся; на другом оказалось больше земли, и пока он расшевеливал ее, стрелки взялись за лопаты и насыпали могильный холм. С той поры добродушного пса стали прогонять по каналу, по валам и дамбам каждый день. Он добросовестно отыскивал людей под землей и не мог взять в толк, что тем самым часто губит их. Он понимал одно — человек оказывался в беде, если находился под снегом или землей, и каждый раз с детской непосредственностью начинал раскапывать его; собака не могла изменить свою сущность, как хотели этого люди и как они меняли свою природу.
И еще одно качество сенбернара спасало ему жизнь. После побега мать Мелитина увидела свою спасительницу только весной. Сенбернар линял, рыже-бурая шерсть свисала лохмотьями, и невыносимо чесалось тело. Мать Мелитина заманила его в прачечную, прочесала гребнем, приласкала, отдала свою пайку хлеба, а из шерсти напряла самодельной веретешкой большой клубок. Осенью она сделала спицы из куска колючей проволоки и стала вязать носки. Но когда довязывала последний, угодила на глаза начальнику лагеря.
— Из чего же ты носочки вяжешь, матушка? — спросил тот.
— Из ниток, батюшка, из шерсти, — ответила мать Мелитина.
— Где же ты такую шерсть взяла?
— Собачку почесала весной.
— Подари-ка мне носочки, матушка, — попросил начальник. — Ноги у меня ревматические и сырости не терпят.
У него и впрямь по весне и осени болели ноги. Да и как им не болеть, если слякоть такая, а он в резиновых литых броднях ходит? Подарила. И так начальнику понравились те носки, что он наказал весной снова почесать сенбернара и связать еще одни. Всю осень и всю зиму, как ни увидит мать Мелитину — нахваливает и нахвалиться не может. Заметно стало, будто подобрел он, отмяк. Стрелков поругивать начал, что те палят ночью почем зря, а наутро опять труп и нехватка рабочей силы. И то сказать, когда у человека тело от хворей мучается и веры нет настоящей те боли принимать с благодарностью, ожесточается душа. Весной мать Мелитина опять начесала линялой шерсти и связала новые носки. Старые же постирала, распустила и надвязала голяшки к новым — так и получились чулки. Начальник их год поносил, да и забыл, что такое ревматизм. Видно, человек он был не такой уж отпетый, оставалась в душе его благодарность, и вот он выскребал ее со дна и отдавал собаке. Дело в том, что кто-то из лагерников разбил камнем нос сенбернару, расхлестал так — страх посмотреть. Ненавидели его заключенные, не понимали собачьего горя. Начальник лагеря мог бы казнить бесполезного для розыска пса, мог бы устроить дознание и казнить изувера, но никого не казнил. А собаку жалел и приказал даже не топить ее щенят-полукровок — сука щенилась каждый год, а отдавать лагерницам, которым вот-вот на волю выходить. Полукровки сенбернара вообще никуда не годились — ни украсть, ни покараулить. Причём уточнил: надежным людям отдавать, чтоб не съели, наоборот, чтоб от своей пайки отщипывали и кормили щенков. Отсюда и пошла традиция: коль вручают кутенка — значит, скоро освобождение. Многие лагерницы и не знали своего срока. По расчету будто кончаться должен, но вызовут в канцелярию и объявят о продлении. Тогда и считать больше не хочется… Тут же сразу видно: кому щенка дали, тому и воля.
Весной тридцать восьмого стрелок-собачник принес щенка и матери Мелитине. Она не поверила, подкараулила начальника лагеря у ворот, спросила:
— Что же, батюшка, отпускаешь меня?
— Отпускаю, матушка, — сказал начальник. — Срок твой вышел. Через месяцок готовься. А за чулки тебе спасибо.
— Носи с Богом, — сказала мать Мелитина и взмолилась: — Батюшка начальник! Помоги и мне раны мои полечить. Поищи сыночка, пошли запрос. Он в лагерях, да вот не знаю, в каких. А зовут Александр Николаевич Березин.
— По какой сидит-то? — Начальник стал записывать. — За что?
— А за что все сидят, батюшка…
— Постараюсь, — пообещал он. — Если жив. — найду.
Потянулись дни ожидания как один бесконечный день. Мать Мелитина ночей не спала, молитвами спасалась да щенком. Щенок весь в мать удался, ничего от отцовской овчарочьей породы не взял. Да больно уж печальный был, не по-щенячьи серьезный. Через месяц вырос он с добрую лайку, и пайки хлеба одному ему не хватало. В то время матери Мелитине и кусок в горло не лез. И вот как-то утром зашел в женский барак надзиратель, кликнул по фамилии несколько человек, в том числе и мать Мелитину, велел собрать вещи, выдал проездные и к воротам повел. Открыл замок, выпихнул лагерниц и ворота захлопнул. Побежали женщины, словно от пожара, заревели, заголосили от радости. Мать же Мелитина осталась у ворот, кричит надзирателю через проволоку: