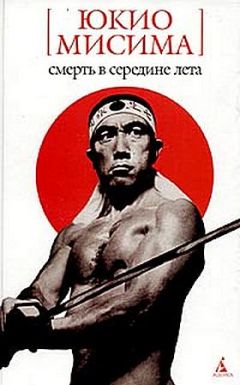представляются не настолько блестящими, чтобы давать за них такое вознаграждение. Этот особенный обмен строками со старым человеком впоследствии стал рассматриваться в качестве литературного предшественника «стихотворных цепочек» (рэнга), — поэтической формы, ставшей чрезвычайно популярной в позднее средневековье, удостоенной названия Цукуба-но мити («Путь Цукуба») в память о ее предполагаемом героическом происхождении.
Кодзики, с. 142.
Кодзики, с. 143.
Это, безусловно, относится к Кусанаги, мечу, который он весьма неосмотрительно оставил у своей жены перед выходом в последний поход. Для японского воина меч стал практически религиозным объектом поклонения.
Campbell, Hero…, р. 207. В книге, написанной для иностранного читателя (от которого никто не ожидает, чтобы он разделял японскую увлеченность героическим поражением), г-жа Теодора Одзаки переписала конец легенды о Ямато Такэру, превратив его в удачливого героя западного образца:
Вернувшись назад, он почувствовал себя больным, его ноги буквально горели, и он понял, что отравлен змеем. Так велики были его страдания, что каждое движение приносило острую боль, не говоря уже о ходьбе, поэтому его пришлось отнести к месту в горах, знаменитому своими минеральными источниками, где вода бурлила пузырьками и почти кипела от подземного вулканического огня.
Ямато Такэру ежедневно купался в этих водах и понемногу стал ощущать, как возвращаются его силы, а боль уходят, и вот, однажды он с великой радостью ощутил себя полностью выздоровевшим. Тогда он поспешил в храмы Исэ, где, как вы помните, он воздавал молитвы перед отправкой в этот долгий поход. Его тетушка, священнослужительница монастыря, благословившая его при расставании, теперь вышла его встречать. Он рассказал ей о многих опасностях, с которыми ему пришлось столкнуться, и о том, сколь чудесным путем он остался в живых, а она хвалила его за мужество и воинскую доблесть, а затем, надев самые величественные одеяния, вознесла благодарения их прародительнице, богине солнца Аматэрасу, покровительству которой они оба приписали чудесное избавление принца. И здесь заканчивается история японского принца Ямато Такэру. (The Japanese Fairy Book [«Японские сказки»], Токио, 1903, с. 35–36.)
По одной из версий, будучи изгнанным богами, Сусаноо был выслан в Корею — ужасная судьба для японского божества. В Нихон сёки описаны его скитания под дождем на пронизывающем ветру, когда он просил убежища у различных богов. Все отвергли его из-за недостойного поведения, и ему пришлось закутаться в соломенную накидку и надеть дырявую шляпу бездомного путника. Таков легендарный источник древних рюрибанаси или сасураибанаси (историй о героях, скитавшихся в одиночестве по чужим странам или отдаленным районам), выразившихся позднее в легендах о Ямато Такэру, Ёсицунэ и других.
Например, разорение межей между рисовыми полями, осквернение священных мест экскрементами, кровосмесительная связь с сестрой.
Действительно, кампания, предпринятая Ямато Такэру в районе Канто, в конце концов окончилась полным подчинением Эмиси и божеств, которым те поклонялись. В этом смысле, он «добился успеха уже после смерти», в отличие от типичного японского героя поражений с его «постоянными неудачами» (поскольку поддерживаемое им дело изначально обречено на неуспех). Что прочно удерживает легенду о Ямато Такэру в качестве прототипа японского героизма, так это эмоциональная тональность и всемерная необходимость именно такого конца жизненного пути.
Ср. знаменитые начальные слова трактата Будо сёсин-сю [«Сборник начальных наставлений на пути воина»], составленного ученым-самураем Дайдодзи Сигэскэ (1639–1730):
«Воин обязан превыше всего рассуждать о смерти, с первого дня нового года, до его последнего дня…»
Дайдодзи Сигэскэ, Будо сёсин-сю, с. 54.
Из Хагакурэ. Не только для самураев смерть являлась высшим критерием искренности, но даже для героев и героинь плебейского происхождения в популярных драмах (например — у Тикамацу Мондзаэмона, начала XVIII века), чьи недолгие жизни обретали достоинство и значимость в смерти, особенно — в ее смелой, самопожертвенной манере двойного самоубийства.
По словам современного писателя: «Смерть для японцев не является просто окончанием жизни. Уже при жизни ей отводится позитивная роль. Достойно смотреть в лицо смерти — одна из важнейших черт жизни. В этом смысле, вполне может быть сказано, что для японцев смерть существует внутри жизни». Kishimoto Hideo, The Japanese Mind, Honolulu, 1967, p. l 19.
Здесь, кстати, мы находим главное объяснение жестокого обращения с военнопленными из войск союзников, захваченных японцами во время Второй Мировой войны.
Великие самоубийцы классической античности, такие как Сократ и Сенека, разумеется, были принуждены покончить с собой верховной политической властью.
Среди японских воинов тяга к Танатосу была настолько сильной, что в средневековых сражениях самураи часто убивали себя еще до того, как это бывало необходимым, то есть тогда, когда сражение еще не было проиграно. С течением столетий дух самоубийства проникал из правящего класса самураев в лежавшие ниже социальные сферы, включавшие и городскую буржуазию. Для героев и героинь пьес Тикамацу (и их последователей в реальной жизни) самоубийство являлось единственно возможным достойным способом избежать конфликта между обязанностями долга и человечности (гири-ниндзё).
Отметим, к примеру, самоубийство адмирала Ониси в 1945 году. Обычно воин, совершивший харакири, обезглавливался его другом, или специальным лицом. Вспарывание живота являлось, фактически, болезненной прелюдией смерти, а не ее действительной причиной.
Нихон сёки (Токио, «Нихон котэн дзэнсё», 1953), IV: 192. (Без специальной оговоренности, все цитаты даются по этому изданию.) Частица — но в аристократических именах может быть приблизительно соотнесена с европейскими «фон», «де» и т. д. Но предшествует клановое или фамильное имя; за ним следует личное имя.
Возможно, он имел в виду отсутствие военных традиций у Сога; в глазах воинов Мононобэ все Сога были гражданскими лицами, и Умако с мечом выглядел глупо. Неясно, являлась ли дрожь Мория результатом болезни или сильных переживаний по поводу смерти императора; в любом случае, предложение Умако (чтобы тому привязали к рукам и ногам бубенчики, звеневшие бы от его дрожи) было сомнительного характера.
Профессор Наоки в книге Кодай кокка-но сэйрицу [«Устройство древнего государства»] (Токио, 1965) на стр.26–27 сравнивает деятельность Монобэ с функциями токко кэйсацу (особая политическая полиция) во время ультра-националистического периода в истории предвоенной Японии. Хотя сходство представляется весьма отдаленным, во времена правления императора Юряку они занимались гораздо более политическими делами, нежели религиозными церемониями, забота о которых в основном ложилась на кланы Накатоми и Имибэ.
Сога-но Инамэ
Сога-но Умако дама Китаси===КИММЭЙ===дама Кохимэгими
29-й император
ЁМЭЙ СУЙКО [31-й [33-й император] император]
дама Тодзико ===Сётоку Тайси принц Анахобэ дама Каваками дама=====ДЗЁМЭЙ принц Ямасиро Хотэ-но [34-й СУСЮН Ирацумэ император] [32-й император]
принц Фурухито
Слово синто («путь богов») не использовалось еще даже некоторое время спустя введение Буддизма; оно было создано в противовес слову буцудо («путь будд»). «Синтоизм, пишет Сэнсом, не есть религия или система мысленных построений, но — выражение национального характера» [Georg Sansom, Japan, A Short Cultural History, New York, 1962, p. 49–53], и до появления иноземных идей он был настолько интегрирован в японские чувства, что не требовал для своего обозначения специального слова. Самоосознание национальной религии принесло появление Буддизма.
На Сога вполне определенно был наброшен некоторый иностранный флер, в противоположность Мононобэ и другим древним кланам Ямато; вполне вероятно, что они были одним из кланов, эмигрировавших в Японию с Корейского полуострова вероятно уже в IV веке н. э, однако в официальных генеалогических таблицах они, как и другие великие кланы, представлены, как прямые потомки японских богов.