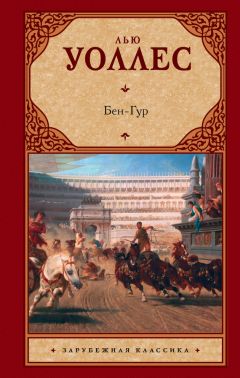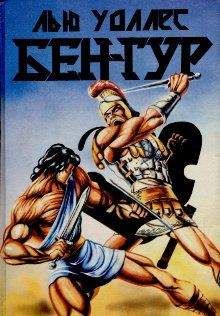Башня возносилась так высоко, казалась такой громадной, такой незыблемо покоящейся на своем основании, что он задумался о ее мощи. Если там была заживо погребена его мать, что он сможет сделать для нее? Голыми руками, разумеется, ничего. Целая армия могла бы ломиться в ворота, обстреливая их из баллисты и колотя тараном, под веселый смех защитников башни. Одна юго-восточная площадка для баллист казалась сравнимой по размерам с целым холмом. Глядя на нее, он невольно подумал – Господь, последняя надежда слабых, порой слишком медлит применить свою силу!
Исполненный сомнений и дурных предчувствий, он свернул на улицу, начинающуюся от входа в башню, и медленно побрел по ней на запад.
Бен-Гур знал, что неподалеку от Вифезды был когда-то караван-сарай, и намеревался там остановиться на все время своего пребывания в городе; но сейчас он не мог преодолеть искушения взглянуть на свой родной дом. Сердце властно вело его в ту сторону.
Древнее традиционное приветствие, которое донеслось до него от кучки случайных гуляк, прозвучало для его слуха сладостной песней. В этот момент высокие облака на восточном небосклоне осветились последними лучами заходящего солнца, и в их серебристом свете стали видны здания на западе, ранее неразличимые – в основном высокие башни на Сионском холме, которые, казалось, плыли в воздухе над невидимой землей.
Он решительно направил шаги к отчему дому.
Некоторые из тех, кто читает эти строки, уже готовы предугадать его чувства. Для этих читателей родной дом в их юные годы был оазисом счастья, вне зависимости от того, сколь давно это было, – именно от этого дома всегда начинали разматываться их воспоминания; этот райский уголок они покидали в слезах, уходя во взрослую жизнь, и в него они хотели бы вернуться, если это было бы возможно, снова став малыми детьми; обитель смеха и пения; с которой не могли сравниться любой или даже все их триумфы в последующей жизни.
У ворот на северной стене своего старого дома Бен-Гур остановился. Воск, использованный римскими солдатами в качестве печатей, был все еще отчетливо виден, а наискосок створок была прибита доска с надписью:
«СОБСТВЕННОСТЬ ИМПЕРАТОРА».Ни один человек не вошел и не вышел из ворот этого дома с того самого ужасного дня, когда Бен-Гур был разлучен с семьей. Не постучать ли ему в ворота, как во время оно? Это было бесполезно, он знал, но не мог устоять перед искушением. Амра могла бы услышать его стук и выглянуть в одно из окон. Взяв в руки камень, он поднялся на широкую каменную ступеньку и постучал три раза. Ответом ему было только гулкое эхо. Выждав несколько минут, он сделал еще одну попытку, на этот раз громче, чем в первый раз; потом снова, каждый раз делая паузу и прислушиваясь. Но царившая в доме тишина словно насмехалась над ним. Отступив на улицу, он всмотрелся в окна, но в них не было и признака жизни. Парапет, которым была обнесена плоская крыша, четко вырисовывался на фоне еще слегка светлого неба; если бы кто-нибудь был там, Бен-Гур обязательно увидел бы его. Но никакого движения, однако, не наблюдалось.
От северной стороны дома он перешел к западной, где было четыре окна, в которые он долго и внимательно всматривался без какого-либо успеха. Временами сердце его замирало от тщетной надежды, иногда его начинала бить дрожь от обуревавших его чувств. Но Амры нигде не было видно – даже в образе бесплотного духа.
Отчаявшись вызвать ее, он обогнул дом и приблизился к его южному фасаду. Здешние ворота тоже были опечатаны и несли на себе такую же надпись. Мягкий свет августовской луны, поднявшейся над Масличной горой, высветил римские письмена на доске, прибитой к воротам. Он прочел их, и душа его наполнилась гневом. Но все, что он мог сделать, это сорвать доску со створок ворот и бросить ее в кювет. Затем он опустился на ступеньку и вознес молитву новому Царю, моля Его ускорить свой приход. Когда чувства его успокоились, усталость после долгой дороги под жарким солнцем взяла свое. Он прилег на ступеньку и в конце концов уснул.
Две женщины, спускавшиеся по этой же улице по направлению от Антониевой башни, приблизились ко дворцу Гуров. Они двигались с опаской, робкими шагами, часто останавливаясь, чтобы прислушаться. Подойдя к углу дворца, одна из них произнесла полушепотом, обращаясь к другой:
– Вот он, Тирца!
И Тирца, бросив быстрый взгляд на дом, схватила руку матери и беззвучно зарыдала, уткнувшись лицом ей в плечо.
– Но пойдем же отсюда, дитя мое, потому что, – мать, помедлив, продолжала, справившись со своими чувствами, – потому что, когда рассветет, нас изгонят из городских ворот – и возврата нам не будет.
Тирца почти без чувств рухнула на камни мостовой.
– Ах да! – захлебываясь рыданиями, простонала она. – И я забыла. Мне было показалось, что я пришла к себе домой. Но ведь мы прокаженные; и у нас нет дома. Мы словно мертвые!
Мать наклонилась и нежно подняла ее, говоря:
– Нам нечего бояться. Пойдем же.
И в самом деле, воздев к небу свои лишенные ногтей руки, они могли бы обратить в бегство целый легион.
Прижавшись к грубой каменной стене, они пошли вдоль нее, скользя словно два привидения. Дойдя до ворот, женщины остановились и, увидев доску на воротах, прочитали, привстав на камень, все ту же надпись:
«СОБСТВЕННОСТЬ ИМПЕРАТОРА».Тут мать всплеснула руками и, воздев очи горе, простонала в невыразимом страдании.
– Что еще, мама? Ты меня пугаешь!
В ответ ей прозвучали исполненные горя слова:
– О Тирца, он беден! Он мертв!
– Кто, мама?
– Твой брат! У него отобрали все – абсолютно все, – и даже этот дом!
– Беден! – рассеянно произнесла Тирца.
– Он никогда не сможет помочь нам.
– Так что же мы будем делать, мама?
– Завтра – завтра, дитя мое, нам придется сесть где-нибудь на обочине дороги и просить милостыню, как это делают все прокаженные; просить подаяние или…
Тирца снова прильнула к ней и прошептала:
– Нам лучше всего умереть!
– Нет! – твердо ответила мать. – Наши дни отмерены самим Господом, а мы верим в Него. Так будем же уповать на Него даже такими. Пойдем отсюда!
Сказав это, она схватила Тирцу за руку и увлекла ее к западному углу дома. Оглядевшись и никого не увидев, они пробрались к следующему углу. Здесь их едва не ослепил лунный свет, заливавший своим сиянием весь южный фасад и часть улицы. Воля матери была непреклонна. Бросив всего один взгляд на окна западного фасада, она сделала шаг вперед, на залитую лунным сиянием улицу, ведя Тирцу за собой. В серебристом лунном свете стали видны зловещие знаки поразившей их болезни – на их губах и щеках, во взоре их близоруких глаз, в их скрюченных руках; но особенно явственно они проступали в длинных спутанных космах мертвенно-белых волос, склеенных в колтуны выступившим из язв гноем. Увидев их, никто не мог бы сказать, что это были мать и дочь: обе женщины выглядели старыми ведьмами.
– Пст! – вдруг произнесла мать. – Там кто-то лежит на ступеньках – какой-то мужчина. Давай обойдем его.
Они поспешили перейти на другую сторону улицы и, прячась в тени от домов, пробрались до уровня ворот, где и застыли на месте.
– Он спит, Тирца!
Мужчина на ступенях не шевелился.
– Стой здесь, а я попробую открыть ворота.
Сказав так, мать неслышно пересекла улицу и попыталась открыть калитку. Она так никогда и не узнала, поддалась та ее напору или нет, потому что в этот момент спящий мужчина вздохнул и, перевернувшись во сне, обратил свое лицо к небу. Наголовная накидка сползла с его лица, и лунный свет осветил его черты. Мать взглянула на него и замерла на месте; потом всмотрелась пристальнее, слегка наклонившись. Затем, выпрямившись, она молитвенно сжала руки на груди и вознесла взор к небесам в немой молитве. Несколько секунд, и она быстро вернулась назад к ожидавшей ее Тирце.
– Возблагодарим Господа! Этот человек – твой брат! – прошептала она на ухо девушке.
– Мой брат? Иуда?
Мать изо всех сил сжала ее запястье.
– Пойдем! – все тем же страстным шепотом продолжала она. – Давай вместе взглянем на него – еще раз – только разок, – а потом да поможет Господь своим слугам!
Рука об руку, напоминая двух привидений и двигаясь неслышно, подобно привидениям, они пересекли улицу. Когда их тени коснулись спящего, женщины остановились. Одна из его рук лежала на каменной ступеньке ладонью вверх. Тирца упала на колени и хотела было поцеловать ее; но мать отдернула ее назад.
– Никогда в жизни; никогда в жизни не делай этого! Мы нечисты, нечисты! – прошептала она.
Тирца отшатнулась от брата, словно прокаженным был он.
Спящий поражал своей строгой мужской красотой. Его лоб и щеки были покрыты коричневым загаром пустыни; под короткими усами розовели губы чувственного рта и поблескивали белизной зубы; мягкая бородка не скрывала нежную округлость подбородка и начала шеи. Сколь же прекрасен он был для исстрадавшегося материнского взора! И как страстно мечтала она обнять своего давно не виденного сына, прижать его голову к своей груди и поцеловать его, как целовала его в далеком детстве! Как только она смогла найти в себе силы удержаться от этого! Силы эти, о читатель, дала ей любовь – ее материнская любовь, которая, если тебе дано это увидеть, именно этим и отличается от всякой другой любви: нежная к объекту любви, она может быть тиранична к самой себе, являя всю силу самопожертвования. Мать опустилась на колени и, склонившись до земли, коснулась губами подошвы одной из его сандалий, желтой от уличной пыли, – и коснулась ее снова и снова, вкладывая в эти поцелуи всю свою душу.