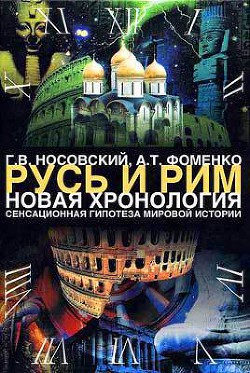менее гнетущее, как бы намеренно отстранял, все же нет-нет да и вставало перед глазами уже и не в ближних летах утерянное, пришел тогда к нему Добрыня и сказал холодно:
— Почему, княже, рушишь большим трудом, кровью и потом омытым, поднятое великодержавие?
— Ты о чем, воевода? — как бы даже с удивлением спросил Владимир, хотя сразу догадался, куда клонит Добрыня.
— Для того ли мы низводили в русских землях светлокняжие, чтобы дать им новых володетелей, которые не лучше старых, и опять потянут всяк в свою сторону?
— Не забывай, воевода, — сурово сказал Владимир. — Ты говоришь о моих сыновьях.
— А я и не забываю. Но кто они есть, помнишь ли ты, близки ли тебе не по крови, нет, по духу? Станут ли заедино, когда ты покинешь их, не перессорятся ли, не перегрызутся ли, опять раздробив Русь на куски?.. Погляди сам… Святополк, старший твой сын, сидящий ныне в Турове, коварен, жесток, по наущению жены своей к ляхам липнет, к королю Болеславу. А Ярослав? Сызмала затаил на тебя обиду за Рогнеду. Хитер, изворотлив. Куда повернет? Уж теперь новогородцы наущают его идти противу Киева. И он спокойно слушает дурнословье и не перечит. А Мстислав? Храбр до безрассудства, нетерпелив. Да силен ли разумом-то? Жадно смотрит на ближние земли и при случае переймет их, чтоб пополнить скудную тмутороканскую казну. А что до Бориса и Глеба, дорогих твоему сердцу, так слабы они для великокняжьего дела, как бы не от мира сего, но от Божьего, и предназначенье им другое… Не гневайся, княже, что говорю про это, знаю, горько слушать такое. Но и говорю от любви к тебе и к Руси. Прости!
Добрыня ушел, так ничего и не услышав от Владимира не в осуждение его слов, не в согласие. И с тех пор меж ними едва ли не вовсе утратилось соединявшее раньше. Впрочем, когда выпадала надобность, Большой воевода шел к Великому князю, и все, что принималось ими, нередко устраивало обоих, и они делались довольны друг другом. Но без прежней сердечности, а как бы в силу необходимости. Каждый понимал: когда бы не эта необходимость, они давно разошлись бы, накапливающееся в них тяготило обоих, и, когда, наконец-то, Добрыня решил уехать в Новогород, это принялись ими с облегчением.
До позднего вечера Владимир пробыл в светлице. Он испытывал великую грусть, коль скоро то, что совершалось на сердце, можно обозначить этими словами; мысли его чаще обращены были к несовершенству мира, к временности даже самого крепкого деяния.
Уже потемну Владимир вышел на подворье, близ конюшен повстречал Великую княгиню, с легким удивлением спросил у нее:
— Ты откуда?..
— От Успения, с церковной службы, — отвечала она.
— Ах, да, конечно…
Он смотрел на нее с нежностью, и мало-помалу грусть, что придавливала сущее в нем, начала отступать. Он вспомнил, как часто наблюдал в ней тяготившую его холодность, как если бы она была для него чужой. Потом-то он понял, что это не совсем так, просто она еще не стала своей среди людей, привыкши сызмала доверяться себе и в каждом человеке видеть чуть ли не недруга. Когда же Владимир догадался об ее колебаниях, подведенный к этому первыми киевскими иереями, тем же Анастасом, которого сделал настоятелем Десятинной церкви, он упрятал подальше свое недовольство ею. Приехавшие из Царьграда монахи еще не забыли о нравах, царящих в греческих землях, и не однажды говорили, наблюдая в нем легкую досаду на Великую княгиню, что она не отошла еще от прежней жизни, но придет время, и все наладится. И тогда он стал больше внимания уделять Анне, говорить с нею о Руси, о людях ее.
— Их не надо бояться, они не держат камень за пазухой. У нас, если даже кто-то пойдет оружно на кого-то, то и тогда непременно пошлет вестника со словами, как отец мой, Святослав: «Иду на вы!..»
Интересно было Владимиру наблюдать, как менялось в Великой княгине, как она оттаивала и уже не смущалась, если даже делалось что-то не так, как ей хотелось бы… Правду сказать, первое время Владимир часто сравнивал ее с Рогнедой, и это сравнение было не в пользу Анны. В отличие от порывистой, резкой в движениях Рогнеды, обладающей острым умом, умеющей приветить ласкою и знающей, что нужно князю, Анна отличалась ровностью характера, тихим нравом, какой-то ничем не объяснимой душевной сокрытостью.
— А Добрыня уехал, — обронил Владимир, с прежней нежностью глядя на жену, ставшую дорогой его сердцу в особенности после того, как она подарила ему Бориса и Глеба.
— На все воля Божья, — отвечала Анна.
И эти, привычные в устах Великой княгини слова успокаивающе подействовали на Владимира. И он постарался не думать о Добрыне, отдавшись делу, и во все последующие дни чаще, чем раньше, принимал посланцев из разных русских земель, встречал и заморских гостей, списывался с чешским князем Андрихом, с угорским князем Стефаном, с ляшским королем Болеславом, отправлял послов к болгарскому царю Симеону и к Кесарю в Царьград. На дню по два раза ходил в дружину, наставляя мужей и поучая отроков и детских, помня, что так делал Добрыня. Привечал хожалых людей и, противно тому, что советовали чернецы, звал их на пиры, отведя им не последнее место за столом и нередко после пированья, догадываясь, что кое-кто из них не поменял веры дедичей, не отказывал им в беседе и старался понять, откуда в них такое упорство. Что, не нашли в себе Бога единого? И огорчался, если они отвергали его слово.
Посреди ночи, поднявшись с постели, долго бродил по великокняжьим покоям, не находя себе места. Впрочем, это совсем не означало отторжения сладостного покоя, что нет-нет да и ниспадал на него подобно Божьей милости, и тогда все в нем как бы расслаблялось, умиротворялось и уж ни к чему не тянуло, как только к испитию от Христовой благодати. Чаще это нисходило к нему, когда он посещал Божий храм Успения Пресвятой Богородицы, в ближние леты поднявшийся в Стольном граде и ярко воссиявший высоко вознесенными двадцатью пятью куполами. Помнится, говорили ближние бояре:
— Почему двадцать пять куполов, а не девятнадцать, по числу русских земель под твоею рукой?
Отвечал строго:
— Но земель-то русских двадцать пять. Не я, так дети мои, внуки соберут их под одну руку. А когда так случится и придут из новых земель христиане и вопросят: «Почему девятнадцать куполов, а не двадцать пять?..» — что им скажут дети ваши?.. Думать надо, бояре!
Много трудов положил Владимир на соборную церковь, скликал