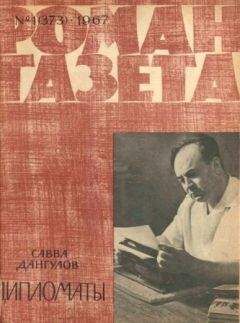— Но вот вопрос. — Система доказательств Кокорева, а пожалуй, и энтузиазм увлекли Репнина. — Насколько монолитен был этот союз — Робинс и Локкарт?
— По-моему, до поры, до времени очень… Как правило, после каждой своей поездки в Смольный Робинс бывал у Локкарта. Допускаю, что какие-то данные, которыми обладал Робинс, были интересны и для Локкарта. Таким образом, эти данные получал и Френсис и через Локкарта английский коллега Френсиса Линдлей.
— А как повел себя Робинс после того, как позиция его претерпела изменения и американский посол бойкотировал его?
— Робинс послал Френсиса туда, откуда и послам нелегко возвратиться! — произнес Кокорев и покраснел, он понял, что принял тон, недопустимый в разговоре с таким собеседником, как Репнин.
— И Локкарта послал туда, откуда… затруднено возвращение? — засмеялся Николай Алексеевич — фраза Кокорева пришлась ему по душе, он воспринял ее как знак известного расположения Кокорева к нему, Репнину.
— Нет, только Френсиса. — Лицо Кокорева все еще было малиновым.
— Вы хотите сказать: вопреки разрыву Робинса с Френсисом Локкарт сохранил отношения с американцем?
— Да, у меня есть основание утверждать это, — произнес Кокорев, пытаясь овладеть собой. — Все, что Локкарт говорил о Робинсе, а говорил он о нем много и охотно, было проникнуто симпатией к этому человеку, даже после того, как Робинс порвал с Френсисом и выехал в Америку, имея на руках известный мандат Ленина, после того, как он прибыл на родину и был атакован прессой, да только ли прессой! Говорят, его отказался принять Вильсон! Даже после этого Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией.
Репнин не мог не заметить: его вопросы не застали собеседника врасплох. Задолго до Репнина эти вопросы наверняка задал себе Кокорев. Видно, молодой сподвижник Дзержинского шел за Локкартом след в след, шел давно, пренебрегая опасностью, переселившись в душу Локкарта. торжествуя и сокрушаясь, радуясь и удерживая себя от разочарования. И Репнин представил вдруг глаза Дзержинского, застланные синеватой дымкой усталости, матово-темные глаза, какие были у него и в тот раз на Спиридоньевке. «Как Тверь? — спросил тогда Дзержинский у Кокорева и повторил свой вопрос: — Как Тверь?» И Репнин подумал: в Кокореве была частица Дзержинского — его воинственность и верность тому дерзкому и большому, что звалось новой Россией.
— Вы сказали, Локкарт продолжал говорить о Робинсе с симпатией. Но как объяснить это?
— Если бы Локкарт вел себя иначе, его отношения с Робинсом могли бы прерваться, а вряд ли он был заинтересован в этом, — нашелся Кокорев.
— С этим можно было бы согласиться, если бы Робинс оставался в России, — возразил Репнин. — Но вот уже три месяца, как американец выехал, а Локкарт все так же щедр и доброжелателен, когда речь заходит о Робинсе. Почему?
— Я ждал этого вопроса! — воскликнул Кокорев. — Вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что англичанин повел себя так, чтобы отмежеваться от всех тех, кто подготовил высылку Робинса из Москвы.
Репнин знал, что Робинс выехал из Москвы вынужденно, и был элементарно осведомлен об обстоятельствах отъезда. Робинс находился в постоянной оппозиции не только к Френсису, но и к Саммерсу, американскому генеральному консулу в Москве, кстати, женатому на знатной русской и отчасти поэтому воинственному антибольшевику. Весной этого года Саммерс внезапно скончался. Этим не преминули воспользоваться враги, распространив слух, что в смерти Саммерса повинен и Робинс… Этот слух странным образом совпал с молвой, что Робинс продолжает противопоставлять себя послу и последнее время все труднее установить, кто представляет президента Северо-Американских Штатов в России. Однажды этот вопрос был даже задан Френсису публично. Робинс узнал об этом и избрал решение, в его нелегком положении единственное: он покинул Россию. Но по тому, как один слух совпал с другим, было очевидно: распространение их исходит из одного источника. Трудно сказать, имел ли Локкарт отношение к этому источнику, но несомненно: англичанин смертельно опасался, что подозрение падет и на него, опасался и не уставал говорить, как ему дорог Робинс.
— Хорошо, я готов принять вашу точку зрения, — заметил Николай Алексеевич спокойно, он не хотел своим согласием слишком ободрять молодого собеседника. — Готов принять… однако в какой мере Робинс противостоял тому, что делали и делают Френсис и Локкарт? Согласитесь, что угроза, которую нес с собой Робинс, вряд ли была для них серьезна.
— Нет никакой угрозы, — произнес Кокорев. — Но то, что прежде было тайной, сейчас ею уже не может быть — погода стала другой. Николай Алексеевич. — Кокорев взглянул на руки, все еще красные: странное дело, он уже не стеснялся их. — Вторжение.
«Вторжение…» Это слово вызревало в разговоре с Кокоревым постепенно и не было неожиданным для Николая Алексеевича, но когда Кокорев его произнес, оно будто упало с неба. Но было ли вторжение акцией дипломатов, это еще требовало доказательств, по крайней мере для Репнина.
— Простите, но утверждение столь категорическое, как это… должно сопровождаться доказательством, чтобы не быть голословным.
Кокорев залился румянцем настолько густым, что волосы, казалось, стали с нежно-белыми.
— Есть истины настолько очевидные, Николай Алексеевич, что нет необходимости их доказывать, — произнес Кокорев голосом, готовым сорваться, его обозлило замечание Репнина.
— Истина становится очевидной лишь после того, как она доказана, — произнес Репнин спокойно и не без укоризны взглянул на Кокорева. Что-то было в Кокореве для Репнина от фанатика, которого ведет не столько разум, сколько сердце: как истинный фанатик, он был нетерпим к тем, кто не хотел принимать его правду на веру.
— Пока гром не грянет… — заметил Кокорев и взял фуражку со стола: когда он ее держал, он лучше себя чувствовал. — Все истины будут доказаны, когда копье будет на пути к цели.
— Вы говорите о копье Локкарта? — спросил Репнин.
— Да, Николай Алексеевич, об этом копье, — сказал Кокорев и, осторожно сжав фуражку, поднялся. Там, где ступал Кокорев, оставались следы — видно, действительно он явился сюда, не заезжая домой. Репнин взглянул в окно: У крыльца стоял кокоревский автомобиль с комьями спекшейся глины на смотровом стекле — видно, проехал версты и версты по полям, затопленным водой, каменистым проселкам и разрушенной гати. Где он был накануне: в Иваново-Вознесенске или Рыбинске?
— Вы сказали, что у копья есть цель? — спросил Репнин, когда они вошли в сумерки коридора.
Кокорев обернулся, и Репнину показалось, что он уловил запах разогретого солнцем лица Кокорева — запах припаленного жнивья и по тревоженной дождем пыли.
— Я вам давно хотел сказать. Никола;! Алексеевич, — произнес Кокорев, и Репнин услышал, что голос его собеседника, исполненный до сих пор спокойного раздумья и даже воодушевления, непонятно дрогнул. — Наверно, это тот случай, когда я могу обратиться к оружию.
Кокорев ушел, а Репнину казалось, что он все еще слышит запах июльского поля. Не продолжал ли Кокорев спор, начатый с ним: «…тот случай, когда я могу обратиться к оружию…» Какой смысл несли эти слова? И еще что было целью визита Кокорева — рассказ о Локкарте и Робинсе или нечто иное?
Репнин спросил жену, не изменила ли она своему намерению ехать с ним на пикник дипломатов в Осаново. Настенька сказала, что дипломаты будут с женами и ему неудобно появиться там одному — он и без этого был для них белой вороной. Гостей принимала чета Френсисов: пикник давал редкую возможность Френсису обнаружить себя дуайеном.
Очевидно, это был не первый пикник и какие-то условности были гостям понятны. Полянка стала буфетным залом — столы накрыли здесь. Высокая круча над рекой — верандой где при желании удавалось уединиться. Березка перед полянкой — и парадным входом, и большой люстрой посольского зала. Чета Френсисов встречала своих гостей здесь. Хозяйка взяла Настеньку под руку и повела представлять женам дипломатов. Хозяин сделал то же самое с Репниным. Момент был весьма удачен — гостей еще не приглашали к столу.
Представляя Репнина дипломатам. Френсис был не щедр на радушие, но церемония представления давала какую-то возможность и ему постоять под большой люстрой, американский посол не пренебрегал этой возможностью. Кстати, от внимания Николая Алексеевича не ускользнула такая деталь: когда они оставались один на один, Френсис был весьма предупредителен, но стоило к ним присоединиться кому-то из дипломатов, радушие немедленно иссякало. Это было настолько явно, что Репнину было непонятно, как этого не замечает сам Френсис.
— Посланник его величества короля Швеции генерал Свеаборг Виборг. — Генерал, разумеется, в штатском, но, казалось, его штиблеты издают звон.