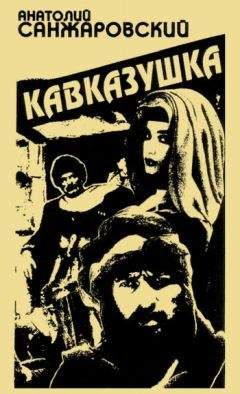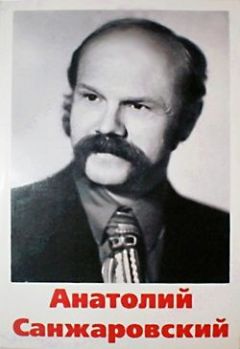Войти в операционную не решается – очень там нужна! – и притаивается к старой щёлке.
Видит: операция удачно закончилась, довольные Кручинин и Нина снимают халаты. Нина кладёт свой халат, точнее, роняет из усталых рук на табурет, берёт грязный полный таз вынести. Взять взялась, а поднять не может, до того уходилась. Так и торчит над тазом, переломленная.
Неясная сила легонько толкнула Жению в плечо. Чего стоишь? Помоги!
И Жения твёрдо вошла, взяла у Нины таз и во двор.
Таз ох и тяжелина, трудно нести на весу. Жения и подтяни ближе к себе.
Вприбежку еле допёрла до оврага. Чуть запрокинула вылить, было уже плесканула – что-то шлёпнулось в таз. Звук короткий, резкий – пак! Что? Откуда?
Жения медленно выворачивает из таза и видит на дне – пуля!
"Боже, – обомлела Жения, – неужели?.. Неужели, – поражённо смотрит на горку вывернутых бинтов в крови, -неужели этот красный комок тряпья уберёг меня? Ну да… Не завязни пуля в бинтах, она б взяла меня. Как просто на войне пропасть…"
Бледная, вся выстывшая Жения показала пулю Кручинину.
Кручинин грустно шатнул головой.
– Ёк-макарёк… Снайперская пуля всегда в карауле…
Со спокойной рассудительностью добавила Нина:
– Считайте, что Вам повезло. Боевое крещение прошло нормально.
Жения недоумевала. Почему так спокойны эти люди? Только потому, что не они оказались у оврага? Но ведь наверняка понеси Нина и что, разве не могло б её убить? Спокойны потому, что не они были там? Конечно! Не слепому жалеть о том, что на рынке свечи подорожали.
Нина догадалась, о чём думала растерянная Жения.
Всё тем же ровным, скорее, равнодушно усталым голосом сказала Нина:
– На войне отучишься удивляться и тому, что ранен, и тому, что в иной момент уцелел. Оттого за одного битого двух небитых дают, да и то не берут… Вы свою пульку не выбрасывайте. А заверните в салфеточку и носите как сувенир войны. Вот так…
Из нагрудного кармана гимнастёрки Нина достала ползвездочки, аккуратно завернутой в чистый листок из школьной тетради в клетку.
– Была когда-то целая звёздочка. Висела у меня на беретке. Пуля угадала в звёздочку. Половинку звёздочки отбило, половинка осталась…
Жения изумилась.
– А голове бил поломани?
Нина слабо усмехнулась:
– Да считай нет, не поломанная. Бог миловал… Голова целая. А ползвёздочки нету. Вот таковецкая потеря. Уцелевшую половинку храню я пуще ордена.
Нина нахмурилась своим словам. Показались они ей высокопарными, чужими и заговорила глуховато, безразлично:
– Всё это не стоит и иголки без ушка… Я вот бы что Вас попросила, раз Вы уже крещённые пулей… – В голос к ней втекло сострадание. – У нас в тяжёлой палатке лежит один грузин. Лицо обгорело… Говорит, умру и слова родного не услышу. Умереть-то… Такой роскоши ему никто не подаст. А насчёт родной речи… Я сведу Вас к нему. Посидите… Поговорите…
Жения с укором раскинула руки. О чём разговор?! Веди!
Парень тот был невысокий, щупленький. Лицо до того обожжено – кости едва не выпирают.
Глянула на него Жения – слёзы захлестнули её. Совсем слезокапая стала.
Нина приложила палец к губам: тихо, сдерживайтесь.
Жения кивнула.
Она понаблюдала, как незнакомая санитарка прикладывала парню марганцовые примочки – жар вытягивала – и жестом показала Нине: пускай санитарка уходит, я сама смогу прикладывать.
Жения обмакнула салфетку в розовый раствор, положила осторожно салфетку парню на щёку.
– Здравствуй, сынок, – по-грузински сказала Жения.
– Здравствуй, мама! – Парень крепко сжал обеими руками её руку, нашарил ощупкой. – Человек я пропащий, отжитой…
Жалеюще и вместе с тем жестковато перебила его Жения:
– Не нравится, сынок, мне твой запев… Отжитой, отжитой… Это ты-то отжитой? У тебя рук-ног нету? Головы нету? Вон до тебя был тут один, как самовар…
– Это как – как самовар?
– Ну… Без рук, без ног, одно туловище. Вместо рук – одни культюшки, вместо ног – одни очурупки, одни обрубки. Делаешь массаж культюшки, а он и скажи: "Сестричка, вы задели за мизинец за больной". Дивишься. Какой мизинец да ещё больной? Рука ж по плечо отхвачена! Растираешь куцый обрубок ноги, опять вроде попрёка: "Такое чувство, будто задеваете за пальцы за больные…" Понимаешь, человек чувствует боль в пальцах, которых у него уже нет. И никогда не ныл, не жалился. Дух в нём круто, надёжно стоял. Говорил, протезные руки-ноги надену, снова пойду бить фашину. [24] А ты… отжитой…
– Всё равно, – уже слабей возражает паренёк. – Скажи, ну зачем такому жить? Глаза выгорели… Я урод… Зачем мучить? В Германии вон сунут в вену два кубика воздуха и полный писец, никому не будешь обузой.
– Ты, сынок, не забывкивай. Ты не в Германии. Ты Победу добывал. Добывал Родине, а Родина в ответ на это – убей тебя? Какая мать убьёт своего сына? Не-е, Родина тебя поднимет. Обязательно поднимет! Сделают пластическую операцию… У тебя девушка есть?
– Да.
– Будешь снова ты интересный, пригожий… Девушка не узнает! Даже ни граммочки не узнает, что у тебя был такой ожог лица.
– И вы про это?.. Вы серьёзно?
– А какие могут быть шутки у нашей медицины?
Парень тихонько сжимает её руку в запястье. Замолкает.
Воцаряется смирная тишина.
А в соседней, лёгкой, палатке, где лежат легкораненые, Нину просят:
– Сестричка, спо-ой… "Землянку". Или "Платочек"… Ты хорошо поёшь. Слушаешь тя – душа в рай идёт!
– А то лежмя лежать тоска-а смёртная…
Нина баловливо щурится.
– Ладно, – соглашается. – Будет вам концерт по заявкам. Только сперва я вам стишок расскажу. А то ускачет из головы. Стишок я сама составила. А называется "Акулина в городе".
Нина покашляла в кулачок, повернулась в улыбке к воображаемой товарке:
– Расскажу те, Катерина,
Как намедни мы с Петром
Собрались кинокартину
Посмотреть мы с ним вдвоём.
В зале рядом с героиней сидел парень, который…
– А потом, чтоб он прокиснул,
Три червонца мои свистнул.
Просыпались сдержанные смешки. И Нина сразу не заметила, что её оробело поталкивает в локоть Жения.
– Там, – Жения потянула руку в сторону тяжёлой палатки, – Сарэнко… Зову…
– Царенко! Ему плохо? – выпугалась вся Нина, сломленно заглядывая Жении в глаза. Жения лишь смущённо краснела. – Извините, товарищи. Мне… срочно уйти…
Царенко лежал с закрытыми глазами.
Нина опустилась перед ним на корточки, взяла руку – покоилась поверх одеяла.
– Царенко, миленький… Вам очень плохо? Да?
Он трудно разлепил веки. Сине посветил улыбкой глаз:
– Кому плохо, тот уже в земле… Я, Нинаша, чего позвал… На речи я не профессор. Не взыщи дорого… Но доброту человечью я держу в почёте…
Нина пялилась на Царенку во все глаза и терялась. "Вот коломенская вёрстушка! Как только и доволокла… Доведись сейчас – и с места не строну…"
Ей вспомнилось, как она тогда с натуги пукнула. Ей показалось, услышали все сейчас, и она, густо рдея, с опаской обвела простор вокруг ищущим взглядом, успокоилась. Кругом всё держал в своей власти сон.
– И благодарность моя таковская… – Царенко положил руку на топорщившийся из-под одеяла бугорок совсем рядом с Ниной. – Ты потиху прими это. Я от чистоты души…
Нина обиженно отмахнулась от него разом обеими руками и, не подымаясь с корточек, попятилась.
– Ну, Царенко, у вас и шуточки!
– Какие ещё шуточки? Примай… Народ спит. Я языком брякать не стану. Не какой-нить козёл бесхвостой… Не бойси. Тут такое… И слова доброго не стоит. Пустяки.
– Вот эти пустяки и приберегите своим дочкам. У вас же их шесть?
– Шесть!– не то с вызовом, не то с удивлением для самого себя подтвердил Царенко. – Надо же… Целых шесть! Мужик я багажистый. У меня всего до горла… Только… Иле я умом граблен… Что-то я никак толку не сведу… Ты чё сапуришься? Илько брать отказываешься?
– А не то разбежалась!
Царенко уныло поджал губы.
– Гладка дорожка, да не хочешь перейти, брезгуша? Ну что ж… Тогда и я тебе такой ответ положу, а чтоб тя язвило! Не возьмёшь, мне ведь сразу худо сделается. Ей-бо!.. Вроде как брезгуешь… Не привечаешь мой отдарок? Так на кой ляд мне твой подарок?!
У Нины округлились глаза.
– Интересно, что же я вам такое дарила? Выдумываете чего?
– Не-ет, Нинаша, этого не выдумаешь… Твой подарочек не развернёшь. Не покажешь… В сумочку не положишь. На пальчик не нацепишь… Кровушка… Чья во мне добрым медведем бегает кровушка?
– А-а… Плата за кровь…
Никакая не плата. А так… От души… Ты крови своей не пожалела! А невжель мне, пузогрею, жалко, – он давнул кулаком в свёрток, в свёртке под одеялом тонко хрустнуло, – а невжель мне жалко поднесть тебе ответно шёлковый отрез да золотое колечко с глазом-бирюзой? Одно слово… Не возьмёшь моё, я солью из себя твои кровя до основания. Мне бритовкой что по палочке чикнуть, что по жиле. И нарисую, мадама, расписку, что вся карусель из-за тебя. Вот такой окончательный расчётец. А само лучшо, моя ты беда и выручка, [25] бери!