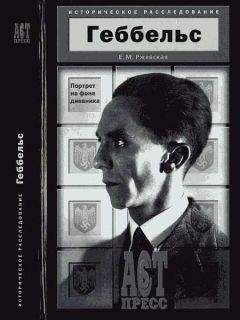По заваленной обломками зданий улице королевская семья пробирается к Музею восковых фигур мадам Тюссо, пострадавшему этой ночью при бомбежке. И снова сигнал воздушной тревоги: «Нам не страшен серый волк, серый волк!» — песенка трех веселых поросят из популярного мультфильма, побывавшего до войны и у нас.
Речь Черчилля, взгромоздившегося на баррикаду. Нависая тушей над верхним ее заслоном, он говорит: «Если и через сто лет нас спросят, какое время было самое прекрасное…» А на экране Дюнкерк. Поражение. Английские корабли, осаждаемые бегущими солдатами, перегруженные, кренясь, отчаливают. Не поспевшие добежать солдаты с берега бросаются вплавь за ними. Неистово плывут… На оставленном берегу лишь мертвые… А корабли все дальше в море…
Сидящий у телевизора англичанин, опережая Черчилля, вслух заканчивает его фразу: «…тогда мы скажем: это время». Знаменитые слова его речи.
«…мы скажем: это время. Самое прекрасное», — твердо говорит Черчилль.
А корабли все дальше уходят к берегам Англии. И не доплыть… На оставленном берегу шурует ветер. Неподвижными бугорками заносимые песком тела убитых. В море тонут солдаты.
Да, то было героическое, прекрасное, трагическое время Англии. Я с восхищением впервые увидела ту Англию с ее достоинством, стойкостью, противостоящую один на один фашистской Германии, когда почти вся континентальная Европа была оккупирована либо в союзе с немцами втянута в войну и реально нависала угроза германского вторжения, не будь июня 41-го.
Заглянула — пусть глазами кинокамеры — дальше той земли, на которую вступили наши солдаты.
И так взволнованно, ясно я охватила то, что вроде бы знаешь, но скорее заученно, чем представляешь себе: наша армия спасла мир. Наша война Отечественная — главное событие Второй мировой войны, принесшее спасение западным странам с их самоотверженным Сопротивлением и этому Великому острову.
И значит, Лондону с Биг Беном, Британским музеем, кладбищем любимых верных собак, Гайд-парком с протоптанной копытами верховых лошадей тропой, с концертными залами, знаменитыми пабами — пивными, универсальными магазинами и россыпью торговых лотков, с Вестминстерским аббатством и плитой там под ногами «Помните Черчилля», он похоронен не под этой плитой — на скромном кладбище родового поместья, как сам распорядился. Да, Лондону, со всеми проблемами, живым современным миром, своей судьбой, своей культурой.
А знаменитых лондонских туманов, в общем-то, нет — их извели правительственным запретом отапливать квартиры каминами.
Однако мы все дальше от Быдгоща на дороге наступления… Благодаря Мартину Смиту через много лет я так взволнованно ощутила себя снова на этой дороге среди войны, да и среди победы. Ах, было, было же и это взлетное чувство. Как и в юности, когда мы мечтали, что спасем мир от немецкого фашизма.
Отдаленно ухали бомбы. С ревом пронеслись штурмовики. Все слышней канонада. Давно истаяли серые дома Быдгоща, и моросило — не то легкий снежок, не то дождик. Шла груженая дорога войны…
У развилки движение застопорилось — перестраивалось на два русла. Наше штабное подразделение вместе с войсками уходило на запад. Я оказывалась оторванной от своих, назначена в группу фронтового подчинения, приданную частям, штурмующим Познань. Я спрыгнула из кузова на дорогу, чтобы пересесть, куда укажут. Из кабины полуторки вышел майор Ветров размяться. Упруго ходил вдоль машины, сунув руки глубоко в карманы полушубка. Серое небо, слава богу, было пустым, спокойным.
Но вот командовавший на развилке скопищем машин незнакомый полковник подал сигнал танкам, и танки первыми пошли, обходя машины, гремя, наращивая темп, а за ними с интервалом двинула на машинах пехота. И мощный ход этой накапливающейся лавины на дороге, уходящей под углом от шоссе на запад, был грозен.
Стоя одной ногой на ступеньке кабины, майор Ветров, прощаясь — «Живы будем, Лельхен, — увидимся», — упоенно, с душевным раздольем сказал:
— Рвутся наши танки! И пехота на машинах, не пешком, на «студебеккерах», на доннер-веттерах, черт возьми!
Мы увиделись через два с лишним месяца.
В тот день, когда я оказалась в Познани, большая часть города была уже в наших руках. Бои шли на северо-восточной окраине. Немцы в упорных схватках отступали под защиту удерживаемой ими цитадели.
Древняя познанская цитадель площадью в два квадратных километра, с ее крепостными рвами, валом, мощными стенами рассчитана была на длительную осаду.
С господствующей высоты крепость с засевшим в ней еще сильным противником угрожала городу. Время от времени в городе рвались снаряды. Это из крепости стреляла артиллерия. Но уже неостановима была многолюдная торжественная демонстрация вышедшего на улицу польского населения — в память жертв оккупации. Несли венки, чтобы возложить к символической братской могиле в ограде костела. Как патетичны были в рядах демонстрантов школьники в форменных курточках, из которых до курьезности выросли, но сберегли их как знак верности и вопреки строжайшему на то запрету немецких властей, требовавших уничтожения всех атрибутов старой Польши.
Познанскне ремесленники — мясники, портные, пекари, скорняки — вышли приветствовать Красную Армию со своими цеховыми знаменами, тайно хранимыми с риском поплатиться за них жизнью.
Поток людей растянулся по улице от самого вокзала, где более пяти лет назад, когда немцы, завладев Познанью, присоединили ее к рейху, прибывший из Берлина идеолог расизма Розенберг, сойдя с поезда, тут же произнес речь: «Posen ist der Exerzierplatz des Nazionalsozialismus» — «Познань — учебный плац национал-социализма», полигон для нацистских постулатов. Он подал сигнал к грабежу, насилию. У поляков отняли фабрики и магазины, их вышвыривали на улицу, а квартиры со всем их личным имуществом, вплоть до одежды и белья, присваивали немцы, понаехавшие сюда, в Познань, из рейха осваивать этот «плацдарм», или немцы, репатриированные из Прибалтики. «Полигон немецкого национал-социализма» — значит: закрытие польских школ, запрещение польского языка, изданий, запрет на исполнение польской музыки, песен не только в публичных местах, но и у себя в квартире… Следовало истреблять поляков всеми видами унижения — подобно запрету садиться в головной вагон трамвая, только в прицепной. Объявление об этом я видела на головном вагоне.
В тот день, о котором я пишу, маленькие любительские оркестры вышли из подполья и звучавшие на улицах национальные мелодии вызывали признательность и громкое ликование. Радость освобождения и скорбь утрат сливались в единое возвышенное чувство.
Обстрел города из крепости почти прекратился. Видимо, удалось подавить стрелявшие орудия или у противника истощился запас снарядов. Армия, выделив части для штурма цитадели, ушла на запад. Ведь войска нашего 1-го Белорусского фронта еще 29 января перешли границу Германии.
Но приказа о штурме не последовало. Цитадель была достаточно неприступна. Это стоило бы слишком больших жертв. Положение остававшегося в осажденной крепости войска и само по себе было безысходным, неминуемо надвигалась капитуляция.
В первые дни немецкие самолеты активно сбрасывали грузы осажденным. Наши истребители не появлялись. Зениток у нас здесь не было, по самолетам постреливали, но они довольно беспрепятственно прилетали. Порой с самолета сбрасывали над цитаделью листовки, они медленно кружили в воздухе, прежде чем опуститься в крепость, и их заносило к нам.
«1945 год принесет нам победу и развязку. В этом солдаты глубоко убеждены, и вера их в это тверда, как скала. Отважная родина ждет от нас в этом году беспримерных подвигов…
Верность и стойкость во имя нашего фюрера и фатерлянда — вот что должно быть нашим паролем в 1945 году.
Хайль фюрер!»
В таком же духе и другие листовки.
А одна из листовок была не совсем обычной:
«К немецким солдатам на фронте!
Издательство „Современная история“ сообщает:
Верховное командование выпустило в свет следующие книжки на 1945 г.:
„Победа над Францией“ — цена 4 м. 80 пф.
„1939 против Англии“ — цена 3 м. 75 пф.
„Победа в Польше“ — цена 3 м. 75 пф.
Заказы принимаются!»
Такой вот навязчивый сервис. «Заказы принимаются!» — значит, все устойчиво в фатерлянде. Так назад — к победам! Эти примитивные уловки — разворошить тщеславие солдат блеском былых сражений, — обращенные с неразборчивостью к безысходно замкнутым в цитадели войскам, были нелепы, словно это издевка.
На первых порах с самолетов сбрасывали также и почту, судя по тому, что один брезентовый засургученный мешок, туго набитый письмами, угодил на нашу сторону. В нем письма, датированные осенними месяцами.
Можно было предположить, и позже это подтвердилось, что часть, в которую они адресовались, долго скиталась в «кочующих котлах», пока, пробившись из окружения, не сомкнулась с познанской группировкой немецких поиск.