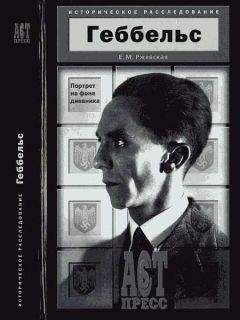Лейтенанту Вилли Вустгоффу — приятель из Эльбинг-Данциг (Восточная Пруссия):
«Еще немного, и войну мы уже выиграли. Войну 14–18 годов мы проиграли. Эту мы тоже выиграем. Но может быть, наши дети увидят еще хоть что-нибудь от тех хороших времен, которые нам обещали и обещают еще и теперь. Я уверен, что нам придется еще пережить такие жестокие времена, каких Германия не знала. Дело идет о том, чтобы быть или не быть».
В эти же дни Брехт писал — перевожу:
Это те города, где мы наш «хайль»
Ревели в честь разрушителей мира,
И наши города теперь лишь часть
Всех городов, разрушенных нами.
Обер-ефрейтору Карлу Оравскому — от жены из Саксонии:
«Мне становится нехорошо, когда я читаю твои письма. Я просто себе представить не могу, как можно все это вынести. Если бы, по крайней мере, была теплая еда. Как долго вы еще будете сидеть в ваших дырах? Покуда вас не вышвырнет Иван? Видать, у вас дело не идет ни вперед, ни назад… В Лейпциге сбежал бургомистр. Давали за него миллион марок вознаграждения. Как у тебя с папиросами? Отец уже горюет, что у него не хватает. У меня тоже плохо. И тетя Марта больше не может выручить — после 55 лет не дают сигарет».
И в сентябре, и позже еще витает надежда на обещанное Гитлером «чудо-оружие», которое вот-вот будет приведено в действие и изменит ход войны в пользу Германии.
«На родине все повернулось к Востоку и ждет, не введут ли в действие какое-нибудь решающее оружие, чтобы остановить продвижение русских», — пишет из Кюстрина фельдфебелю Фрицу Новке обер-ефрейтор Даме.
Лейтенанту Вилли Вустгоффу — приятель из Восточной Пруссии:
«Недалек тот день, когда фюрер нажмет кнопку. Нам надо теперь только выиграть время — и скоро заработает новое оружие».
Но появляется уже ироническое недоверие.
Обер-ефрейтору Карлу Штейну пишет жена из Мюнхен-Кохеля:
«Враг продвигается все ближе, кое-где он уже на Рейне. Но когда в ход будет пущено новое оружие, тогда уж дело пойдет на лад. Какое оно будет, знаешь? Это танки с экипажем в 53 человека, один будет рулить, двое стрелять, а пятьдесят толкать!! Ведь бензина больше нет. Анекдоты теперь ходят совершенно устрашающие».
«Ну, что ты скажешь о „фольксштурме“? — спрашивает отец солдата. — Миленькое дело, не правда ли? Говорят, это и есть новое оружие…» «Мне только хочется досмотреть, чем это кончится, — пишет ему мать. — Ужасным концом или ужасом без конца. Наши мысли всегда с вами, которые в окопах, наша единственная молитва — да защитит вас Господь».
По мере того как я разбирала мешок с письмами, читала их, абстрактная масса — неприятель, засевший за стенами осажденной крепости, стал под натиском разноголосицы этих писем распадаться на отдельные смутные фигурки: все эти Вилли, Германы, Людвиги, Карлы, Гансы…
А тем временем немецкий фронт все дальше отступал на запад и грузовые самолеты все реже появлялись над цитаделью.
Был издан приказ по вермахту главнокомандующего Гитлера: солдаты, попавшие в плен, «не будучи ранеными или при отсутствии доказательств, что они боролись до конца», будут казнены, а их родственники — арестованы.
Работа моя над письмами подходила к концу. Сентябрьские письма кончились. Не дошедшие до адресатов, они были написаны еще в ответ на полученные с фронта весточки, еще с живой связью. Но уже все больше западных районов занято англо-американскими войсками. Города отпали. Поток писем мелеет. Примерно в октябре обратная связь вообще обрывается. Видимо, часть находится в окружении. Нет известий от своих с фронта. Но родители, невесты, приятельницы еще пишут с надеждой, пишут из суеверия, пишут, делясь своими невзгодами. Иногда товарищ с другого участка фронта пишет, не зная, что письмо уже не дойдет, так же как и родственник ефрейтора Петера Амлера из Вилленберга:
«18 октября 1944 г. Привет из прекрасной Восточной Пруссии.
Мы все еще живы. Как это ни смешно. Вот тем, которые живут в Западной Германии, теперь действительно не до смеха. По радио только и слышишь, что томми летают там беспрерывно. Фронт в 50 км от нас. Мы слышим канонаду, но не теряем мужества. Вообще говоря, человеку нужно иметь большую удачу, чтобы не отправиться теперь на тот свет. Если террор с воздуха будет продолжаться еще несколько месяцев, то от немецких городов ничего больше не останется. Да, кто бы мог подумать, что наши враги так скоро окажутся у немецких границ. Если бы кто-нибудь сказал год назад, его сочли бы сумасшедшим.
Что поделывает твоя девушка? Пишет ли она тебе все еще прилежно и вообще, хорошо ли себя ведет? Потому что здесь у нас о женщинах этого никак не скажешь. Дело доходит почти до катастрофы — все то, что здесь происходит с солдатами. Можно подумать, что наступает конец света, потому что люди никогда еще не были так безнравственны, как в это серьезное время, какое мы переживаем сейчас.
О Боге никто больше не думает и никто о нем знать не хочет — и все-таки требуют, чтобы Господь Бог послал нам всякое благополучие. Я думаю, что такой народ без Бога долго существовать не может…»
В одном письме была вложена страница газеты «Миттельдойче Национальцайтунг» (Галле, № 264 за 1 октября 1944 г.). Здесь сообщалось: «Рейхсминистр СС Генрих Гиммлер принял 29 сентября на своем полевом командном пункте генерала Власова, командующего русской освободительной армией, и имел с ним полную взаимного понимания и согласия длительную беседу».
Ефрейтору Фрицу Карпанику — мать из Гинденбурга:
«5 окт. От горя и мук нигде не находишь себе утешения. И ваша жизнь — это мученический путь, который вы должны пройти. Я одна и говорю себе: „Боже, верни мне только моих детей!“
Все должны взяться за дело, потому что враги перешли границу Германии, говорится в газете… Дом полон русских, а работа стоит, ничего не делается. Где нет в доме господина, там нет и Бога. Так теперь в нашем доме. Я думаю, что тебе не приходится столько раздражаться, сколько мне…»
Солдату Фрицу товарищ с другого участка фронта:
«Уже четвертый день русский у нас не наступает, однако скоро начнется. Если бы только эта собака не имела столько танков и пехоты. Я уже каждый день жду ранения, но русский не желает стрельнуть».
«Мой дорогой Густав! Я жду что ни день письма от тебя. Отец уже неделю как дома, приходит в себя после госпиталя. Дорогой Густав! Не могу не поделиться с тобой своими тяжелыми огорчениями. Когда в связи с выходками отца я взмолилась: „Людвиг, что подумают люди?“ — он ответил в пренебрежительном тоне: „Думать разрешается только начиная с генерала и выше. Моя голова — это только наростообразное утолщение шеи, препятствующее сползанию галстука и облегчающее ношение стальной каски“. И все в таком же духе. Поверь, когда грубый солдатский, фронтовой юмор всерьез по каждому поводу вносится в семью в такое жестокое время, это нелегко выносить».
Обер-ефрейтору Гуго Ленговскому — жена из Кальборна:
«6 ноября 44 г… К нам каждый день прибывают на подводах беженцы из района Люк. Горе, как поглядишь на них. Будем надеяться, что нам не придется бежать, может быть, Иван так далеко не дойдет…»
Писем, помеченных декабрем, не было. Но есть еще письмо — январское, единственное. Это одинокое письмо, написанное как бы в никуда («Не знаю, достигнет ли оно тебя»), обращено к сыну с суровой последней потребностью.
Обер-ефрейтору Лотару Пауру пишет отец Якоб Паур из Розенгейма (подле Мюнхена). 8 января 1945 года (вечер):
«…Сегодня я встал в 5 часов утра и в 6 уже уехал в Мюнхен. В 14 часов я был там, но сделать ничего не смог. Из-под обломков нашей кладовой я извлек велосипед… От Восточного вокзала я направился через Людвигсбрюке к бирже. Этот путь в центр города проходит по руинам… Сводка командования сообщает, что дворцовый и королевский театры, Максимилианеум и т. д. разрушены. Но эти театры были уже так разбиты, что практически там уже нечего было разрушать, разве только что одни развалины. Горит Палата управления областного хозяйства, биржа сровнена с землей прямыми попаданиями, верхняя часть города горит, Регина пылает, Континенталь уже сгорел, отель Лейнфельер обвалился, от банковского дома Битциг чудесным образом уцелела одна стена. Не существует дом нунция, горит Центральная кредитная касса, горят Турецкие казармы… Исчезла Китайская башня, здания вблизи нее пылают, железная дорога до Пазинга взорвана… Все очень невесело и печально, особенно когда смотришь па людей, которым выпало это жестокое испытание. Множество домов видел я в пламени. Многие улицы непроходимы для машин, сквозь них можно пробираться только узкими тропинками. Во всех частях города и в окрестностях сброшено страшно много воздушных мин, и всюду разрушения огромны. Я не хочу больше смотреть, мне достаточно того, что я вижу там, где вынужден ходить.