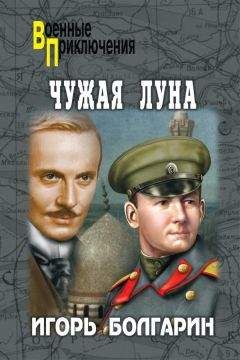Слащёв опустил собачку на землю. Она стала прыгать вокруг Глафиры Никифоровны на задних лапах и продолжала непрерывно радостно лаять.
— Зизи! — удивленно сказала Глафира Никифоровна. — Саша! Это действительно она, моя Зизи! — и она обернулась к Слащёву: — Скажите, Яков Александрович, только правду! Ведь это она, моя Зизи?
— Нисколько не сомневаюсь, Глафира Никифоровна.
— Боже! Но как же она у вас оказалась?
— Глаша! Прошу тебя, не заставляй Якова Александровича снова вспоминать эту потрясающе драматическую историю, — строго сказал жене Соболевский и украдкой подмигнул Слащёву. — Он мне только что рассказал, и я никак не могу успокоиться! У меня даже разболелось сердце. Не найдется у тебя ничего лечебного? По рюмочке бенедиктинчика? Представь себе, он выкрал ее из гарема эфиопского султана. Она была любимицей его четвертой жены.
— Седьмой! — подхватывая затеянную Соболевским игру, уточнил Слащёв.
— Это не столь важно, — сказал Соболевский и снова перевел взгляд на жену. — Я тебе потом, ангел мой, все в подробностях расскажу. Яков Александрович чудом спасся, три евнуха с ятаганами…
— Четыре, — для правдоподобия вновь уточнил Слащёв.
— Ну, ты только представь себе! Четыре евнуха. Ятаганы. Светильники от свалки погасли. Рубка в полной темноте. Яков Александрович чудом спасся.
— А жены? — спросила Глафира Никифоровна.
— Все тридцать — в обмороке!
— Боже, как это admirable!
— Глашенька! По такому случаю! — ласково заворковал Соболевский. — Нет бенедиктина, налей нам твоей божественной настоечки. Якову Александровичу это просто крайне необходимо. Риск! Нервы! Буквально вырвался из лап смерти. Ну, и я его слегка поддержу!
— Ну, что же! Входите! — вздохнула Глафира Никифоровна и подхватила на руки Зизи. И она, все еще возбужденная от встречи с хозяйкой, все норовила ее облизнуть и время от времени заходилась в радостном лае.
Слащёв в дом не пошел.
— Извини, Александр Степаныч, не могу. Нет настроения.
— Это что-то новое в твоем репертуаре, Яков! Я тебя просто не узнаю. Сейчас перехватим по паре лафитничков, и жизнь покажется пуховой периной.
— Нет. Извини. Пойду.
И уже когда они дошли до калитки, провожающий Слащёва Соболевский спросил:
— Слушай, Яков, а это действительно Зизи?
— Да.
— Но как она у тебя оказалась?
— Ну, помнишь, тогда она затерялась на «Твери». Ее через трое суток в машинном отделении нашли. Сама вышла. Вся в мазуте. Страшнее черной ночи. Кое-как отмыли. Так она и оставалась на «Твери», плавала в Бизерту и на Лемнос. А потом как-то знакомый механик занес ее ко мне. Вот и вся история.
— Все-таки ты дурак, Яков! Сказал бы Глашке, что выкупил ее у янычар за… ну, хоть за пятьсот франков. Она бы заплатила.
— Это ж ты начал про мои подвиги.
— И я дурак, не сразу до этого додумался. Н-да! Опростоволосились. Она — баба жмотистая, все мои деньги в своих закромах держит. Веришь-нет, сам иной раз в ногах у нее валяюсь, выпрашиваю. Слушай, давай вернемся! Я ей по-новому, еще жалостливее все представлю. Она, дура, всему верит. Скажу, ее везли на живодерню. А ты узнал, выкупил. Барыш — пополам.
— Нет. Ты со своей бабой сам справляйся. Без помощников.
— Но — деньги, чудак-человек! Они что, больше тебе не нужны?
— Угадал. Не нужны.
— Ты чего? — даже застыл от удивления Соболевский. — Что, разбогател? Фунты наконец получил?
— Не получил. И не получу, — сказал Слащёв.
— Почему же? Что-то с родней случилось?
— Да нету у меня никакой родни. Ни в Англии, ни в Гондурасе, ни в Хацапетовке. Извини, брат! Надоело мне врать! Ваньку валять из-за копейки. Прогибаться. И нищенствовать тоже.
— Это кто ж тебе такую крамолу в голову вложил? Ты хоть одного человека видел, который бы не врал? Мелкий, он и врет по-мелкому, за копейки. А я та-аких тузов видел! Мелочь-мелочью, а врут на миллионы. И им несут! Миллионы несут! Иной уже столько наврал, что до него не подступишься!
— Посадят, — сказал Слащёв.
— Таких, Яша, не сажают. Я тебе по большому секрету скажу: они нужны-с! Без них нельзя! Да ты их и не узнаешь на улице! Нет, что я? Не увидишь! Они в дорогих каретах, в автомобилях… Это, Яша, и есть жизнь.
— Я не хочу такой жизни.
— А другой не бывает. Ты только после армии еще до нее не приспособился. Или до конца ее не понял. И в армии так же.
— Не знаю, может быть. Извини, Саша, я пойду.
Соболевский торопливо сунул руку в карман, вынул кошелек и, извлекая купюры, продолжал:
— Ты заболел, Яша. Есть такая болезнь: безденежье. Возьми, лечись!
— В долг больше не беру. Знаю, не сумею отдать.
— А разве я сказал тебе «в долг»?.. Бери!
— Нет.
Соболевский почти насильно сунул Слащёву в карман несколько крупных турецких купюр.
— Надеюсь, завтра видеть тебя совершенно в другом настроении.
Слащёв все же хотел вернуть деньги, но не стал сопротивляться и с каким-то ленивым безразличием подумал: «А, плевать!».
На пороге дома вновь возникла Глафира Никифоровна с Зизи на руках:
— Ну, где же вы, Саша! Я стол накрыла!
Но Слащёв был уже далеко.
Дома Слащёв лишь на минуту зашел к себе. В спальне, в заветном шкафчике, под стопкой аккуратно сложенного, оставленного ему белья он нащупал револьвер, вытащил его. Что-то упало к его ногам. Крохотный аккуратненький беленький пакетик лежал на полу Когда-то, не так давно, он тщательно искал его. Он перерыл тогда все белье, перетряхнул каждую рубашку, каждую простынь. Как он нужен был ему тогда!
Он торопливо поднял пакетик, сунул его в карман, туда же положил револьвер и вышел во двор. Прошел к беседке, уселся на скамейку и стал задумчиво наблюдать за кораблями в заливе. Их было много. Одни покидали его, иные только входили. Разноголосо перекликались друг с другом.
Чужая жизнь, чужие заботы. Что ему до них.
Вспомнил на минуту комполка. Обещал зайти. Ушел и забыл.
«Все врут, подстраиваются под обстоятельства», — вспомнил он слова Соболевского. Неужели и этот соврал? А он впервые поверил. Поверил почти как себе.
Он вынул из кармана крохотный пакетик, бережно открыл его, положил веред собой. Мелкая белая пыль притягательно искрилась на белоснежном листе бумаги. Еще несколько минут — и мир для него станет добрым, уютным, привлекательным. Уймется саднящая сердечная боль. Забудется одиночество, неустроенность, нищета.
Ну, а потом? Завтра? Чтобы продлить эту безмятежную и бездумную жизнь, надо будет снова доставать этот эликсир счастья — кокаин. Кому-то надо будет врать, у кого-то выпрашивать деньги. В конце концов — достанет. И еще зарядится на день, может, на неделю. Но когда-то, и очень скоро, все это кончится. И он снова будет сидеть здесь, решая все тот же вопрос: как жить дальше? Не лучше ли уж сразу отказаться от этого призрачного счастья?
Он взял в руки пакетик, подержал его на ладони, с отчаянным сожалением последний раз посмотрел на эту обещающую несколько часов внутренней гармонии и тихого радостного покоя искрящуюся пыль и подбросил пакетик вверх. Слабый ток воздуха подхватил тонкий бумажный листочек, и с него просыпалось белое облачко. Истаивая, оно плыло по воздуху и вскоре исчезло, не оставив после себя ни малейшего следа.
И снова Слащёв какое-то время сидел, вперив глаза в одну точку. Вспомнил себя, молоденького подпоручика. Он только что с золотой медалью окончил Императорскую Николаевскую военную академию. Один из немногих, он был прикомандирован тогда к пажескому корпусу в должности младшего офицера. Несколько лет — и летом, и зимой — вся его жизнь была занята муштрой. Он хотел стать хорошим офицером — и стал им. Легко шагал по служебной лестнице, дослужился до полковника. И все ждал: вот она наступит, настоящая жизнь, феерическая, красочная, праздничная, заполненная бравурными и радостными маршами духовых оркестров. Ведь еще совсем недавно была такая: гусары, кивера, ментики, тайные любови, дуэли! Куда все это ушло? Куда делось?
Впрочем, довольно скоро она наступила. Но совершенно иная. Вместо праздников — тяжелые походы, дожди, слякоть, холода, кровавые схватки с противником, вместо бравурных маршей духовых оркестров — госпитали, снова бои и снова изнуряющие походы.
И вот свечным огарком дотлевает жизнь. Чужбина. Одиночество. И ничего впереди.
Басовитый гудок прервал его воспоминания. Лоцманский катерок надрывно втаскивал в залив большой океанский корабль. На его корме развевался невиданный прежде красный флаг с белой звездой. Вспомнил: видел такой на антибольшевистских листовках. Это был флаг новой Советской России.
«Последний привет с Родины»! — с некоторой тоской подумал он и стал наблюдать за кораблем. По нижней палубе носились матросы, легкий ветерок донес до него отдельные русские слова и звуки боцманской дудки. Но корме русскими и латинскими буквами выведено: «Темрюк», и чуть ниже порт приписки: «Одесса».