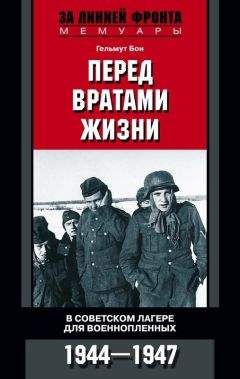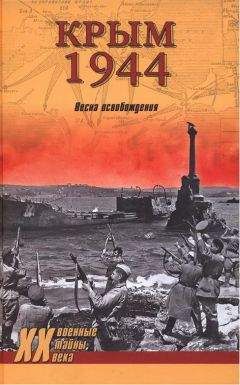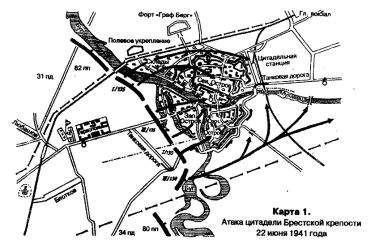Но еще хуже, чем эта постоянная маскировка с помощью смены фамилий и военной формы, являются слова.
Вот перед тобой сидит Белоров. Бледное, нервное лицо. Седеющие виски, пронизывающий взгляд. И он говорит, что Коминформ не имеет ничего общего с прежним Коминтерном. Он произносит это так, словно декламирует со сцены что-то выученное наизусть. Так человек не высказывает собственное мнение.
Или же он заявляет, что Достоевский не такой уж и великий, как мы, возможно, думаем. Политбюро Сталина не причисляет Достоевского к числу великих русских писателей. Психология — это нечто нездоровое. Но у Белорова как личности возникает потребность поговорить о Достоевском. Он хочет знать, читал ли я Достоевского.
Я совсем не чувствую усталости. У меня сейчас такое состояние, словно я очень долго находился в сумерках и вдруг вышел на яркий дневной свет.
Вокруг меня новое буйство красок!
Военнопленные, вернувшиеся из России, молча сидят в британских военных грузовиках, которые везут их из лагеря в городке Мунстер (между Гамбургом и Ганновером. — Ред.) в Ганновер. Последний переезд перед возвращением домой.
Те военнопленные, которых отпустили из английских лагерей, обращают на себя внимание не только наличием у них большого багажа, огромных, с человеческий рост, мешков, какие бывают у моряков дальнего плавания, и не только своей новенькой, как с иголочки, униформой.
Они стоят во весь рост в кузове грузовиков и бесцеремонно кричат прохожим.
— Эй, Анна! — кричат они, когда в городе Целле симпатичная блондинка переходит дорогу.
Вернувшиеся из русского плена военнопленные считают бестактным вот так орать во все горло «Эй, Анна!», когда дорогу переходит незнакомая девушка.
Они не присоединяются к тем, с большими морскими мешками, и тогда, когда те кричат вслед деревенскому полицейскому:
— Эй, ты, спекулянт!
Может быть, те, кто кричит «спекулянт», и правы.
Они лучше знают, как обстоят дела в стране в данный момент. Но им не следовало бы выкрикивать нечто подобное, когда мы возвращаемся домой.
Еще около трех часов я сижу на центральном вокзале в Ганновере. Большая толпа пленных находится и на перроне. Но по их сосредоточенным лицам видно, что каждому хочется побыть одному, наедине со своими мыслями.
Я покупаю местную газету. Как же это прекрасно, когда есть возможность купить свежую газету!
Я сижу на скамье. Скамья тоже отличная. Это не просто доска. На этой деревянной скамье сидишь как в кресле, — так здорово она подогнана по фигуре.
Когда я на минутку отрываюсь от чтения, сидевший недалеко от меня мужчина приносит мне целую горсть мелких груш:
— Видимо, вы давненько не пробовали фруктов!
И он снова возвращается к жене и уже большим детям, одетым в бросающиеся в глаза теплые шубы, которые заняли всю соседнюю скамью, и сейчас с аппетитом уплетают фрукты, доставая их из красной кожаной сумки. Возможно, они спекулянты, думаю я. Но, может быть, я несправедлив по отношению к ним.
К противоположной платформе подходит скорый поезд дальнего следования. Пассажиры берут его штурмом. Они лезут в вагоны даже через окна прямо с рельсовых путей.
Надеюсь, мой поезд, который вскоре должен прибыть на тот же путь, не будет таким переполненным.
На поврежденном во время бомбежки перроне становится холодно и начинает накрапывать дождь. Когда, чтобы согреться, я вхожу в кафетерий, какая-то пожилая женщина спрашивает меня:
— Хотите яблоко?
Может быть, эта женщина обиделась, когда я сказал ей, что не хочу яблоко. Поэтому, быстро оплатив кофе, а то и его мне нальют бесплатно, я говорю:
— Ведь наверняка многие возвращаются из России. Это здесь не такая уж и редкость.
Но потом я все-таки съедаю ее яблоко.
— Видимо, это первый фрукт, который вы едите? — спрашивает она.
— Да, — отвечаю я.
И по ее лицу видно, что она рада, что это яблоко оказалось первым, которое я ем.
Но потом я все же уточняю:
— Нет, не совсем! До этого меня уже угостили грушами.
Тем не менее она пожимает мне руку на прощание, когда я ухожу.
Конечно, ей было бы гораздо приятнее, если бы ее яблоко оказалось первым фруктом, который я съел спустя столько лет плена. Но нельзя лгать только для того, чтобы доставить людям радость. Даже в малом. Я думаю, что именно поэтому и начались у меня недоразумения с женой. Эти недоразумения и привели к известным последствиям. А ведь моя жена была так счастлива.
Но теперь я даже не увижусь с ней, хотя нам и надо еще кое-что обсудить. И больше ничего.
Я все еще жду прибытия своего поезда на перроне центрального вокзала в Ганновере. Начинает смеркаться. Но у меня в душе остается этот яркий, как в лаборатории, свет.
Меня охватывает необычайное волнение, возрастающее с каждой секундой.
Как мог я только подумать, что выдержу в России и эту зиму? Да я не смог бы выдержать там даже месяца!
Неправда! Конечно, я смог бы выдержать месяц.
И зиму пережил бы. Возможно, даже еще один год.
Но в России я был вдали от родины. Вот только теперь, оказавшись на родине, я чувствую, как много она значит для меня.
Какая в ней огромная притягательная сила!
В России я был чужд самому себе. «Сначала мы подумали, что ты русский, когда ты впервые пришел в наш лагерь от Центрального актива!» — заметил как-то один из моих знакомых. Но теперь я в душе возвращаюсь к самому себе. И внешне тоже. Домой и к себе.
Я сижу в темном поезде. По оконному стеклу хлещут струи дождя. Шумит ветер. Глубокая ночь. Я вслушиваюсь в шум ветра. Вслушиваюсь в суть вещей.
Напротив меня сидит женщина с маленьким ребенком.
— Сколько еще часов, мамочка? — ежеминутно спрашивает ребенок.
Я сижу в темном поезде и задаюсь вопросом, изменился ли я за все эти долгие годы, пока меня не было здесь.
Я не хотел бы больше делать что-то не так.
Я хотел бы плодотворно использовать каждую секунду.
Поэтому я спешу пересесть в Госларе на поезд, идущий в Гарц. Но поезда туда больше не ходят. Нет, теперь все не так, как было раньше.
«Тысячелетний Гослар», — написано на щите, установленном на перроне. Через узкий проход на перроне я выхожу на привокзальную площадь. Всего лишь каких-то восемнадцать километров — и я был бы уже дома!
Останавливаюсь на привокзальной площади и в нерешительности оглядываюсь.
Ведь кто-нибудь должен же отвезти меня в теплую комнату, где есть печенье, горячий чай и интересные журналы.
Как это было тогда, когда во время войны я приезжал в отпуск из России, будучи еще солдатом.
Но и тогда у меня тоже были заботы. Во всяком случае, совсем не те, которые должны были бы быть.
Я совсем не удивился, что еще ходит автобус. По крайней мере, до Ханенклее.
Я не удивился, что меня взяли, хотя автобус был набит до отказа.
Я стою одной ногой на самой нижней ступеньке, впереди, рядом с водителем, а другой ногой опираюсь о край ступеньки, расположенной выше.
Когда автобус поворачивает на крутых горных поворотах, я с трудом сохраняю равновесие. Одиннадцать километров по горной дороге все выше и выше в Гарц. Мокрая асфальтовая лента шоссе вьется между огромными темными елями.
Последние восемь километров я пройду пешком.
— Тебе надо свернуть на первую дорогу слева! — говорит мне водитель, когда я выхожу из автобуса.
Все еще идет дождь. Не видно ни зги, хоть глаз выколи!
Неужели я должен повернуть назад?
Этого только не хватало!
Холодные струи дождя стекают мне за шиворот. Ватная телогрейка вся пропиталась водой.
Но, кажется, я пропустил дорогу слева, на которую должен был свернуть. Тогда я срежу путь напрямик через лес. Но ночь такая темная, что я с трудом могу различить, где заканчиваются ели и где начинается небо.
Я точно знаю направление.
Но здесь теперь сплошная лесосека, а там выросли молодые деревца.
Я заблудился!
Споткнувшись, я падаю в яму с водой. Почти десять минут я ищу шапку, свою черкеску, которую ветка сбила с моей головы.
Чтобы перевести дух, присаживаюсь на несколько минут под огромную ель. Чистое безумие, что я плутаю здесь в темноте только потому, что решил обязательно сегодня попасть домой.
Прислоняюсь спиной к стволу ели. Но в воздухе совсем не пахнет смолой и лесом. Только дождем и гнилью.
Я сижу и говорю себе: каждый человек постоянно совершает одни и те же ошибки.
Потом я поднимаюсь и двигаюсь в сторону слабой полоски света. Через некоторое время я замечаю, что зашел в болото.
Ну вот, не хватало только, чтобы я утонул в какой-то луже в пяти километрах от родного дома, после того как выдержал четыре года в русском плену!
Но как же это банально, что я заблудился. Конечно, я хотел бы рассказать: «Ну, подумаешь, разве это трудности! Если поезда нет, мы идем пешком! Что вы думаете, нам и не такое приходилось переживать в России!»