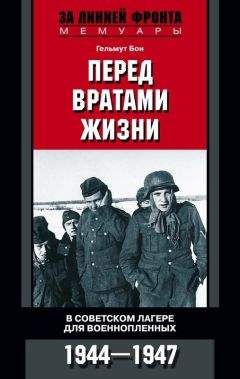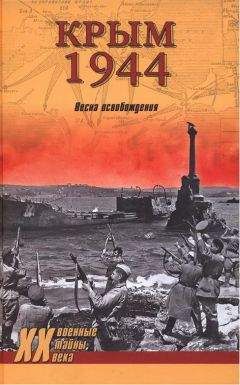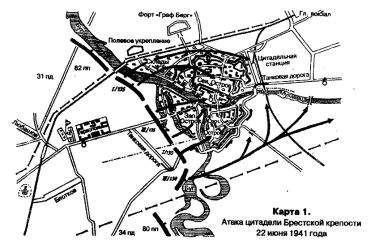Я еще раз пересекаю заснеженное поле, прохожу по мосту, с которого тем временем бедняки из близлежащих жалких домишек растащили последние доски для обогрева своих жилищ.
Я перехожу через железнодорожные пути. Там у штабеля шпал стоит женщина в теплом платке на голове, в валенках и с ружьем на плече.
В высоких многоквартирных домах ярко освещено каждое окно. За каждым таким окном проживает какая-нибудь семья.
Но на улице сегодня мерзко, как никогда. Идущие мне навстречу прохожие зябко кутаются в пальто и вжимают голову в плечи.
Когда я раньше был обычным пленным, то часто думал о том, что мог бы вот так совершенно случайно встретиться со своим братом. Это было в то время, когда я еще верил в чудо. Мне было известно, что многие действительно встречались в России. Отцы встречали своих сыновей, жены — мужей. Такие встречи всегда были весьма прискорбными, однако сродни настоящему чуду.
Будучи активистом, в такое не веришь, так как часто сам спекулировал на этом.
Но и будучи простым пленным, осенью 1947 года тоже уже не веришь в то, что произойдет чудо.
Уже сама почта из Германии, часть которой иногда Целый год лежит в запечатанных мешках в управлении, лишает пленного всяких иллюзий.
Не остается ничего, кроме желания выжить.
Ведь до этого столько людей умерло и погибло.
Тех, кто сейчас еще жив, охраняют, чтобы они не могли больше так быстро и нерентабельно погибать.
Пленных кормят так, чтобы этого было достаточно, чтобы не умереть с голоду, но недостаточно, чтобы нормально жить.
В помещениях Центрального актива в 13-м лагере царит необычная для этого часа суматоха, все очень заняты. В эти две небольшие комнаты переехала и администрация лагеря. Кто-то занимается перестановкой кроватей, другие переносят с места на место всякие бумаги.
Грегор ушел в управление. Пожалуй, нет смысла ждать, пока он вернется назад. Но Кристоф Либетраут уверяет, что Грегор обязательно спросит у капитана Белорова, как обстоят мои дела. Многие передают мне письма, которые я должен переслать их женам в Германии.
— Я сделаю все, чтобы провезти их контрабандой через границу! — говорю я. — Возможно, я смогу лично навестить кого-то из ваших близких. Но сначала мне надо отправиться в путь.
Юпп Шмитц сидит за столом и читает. Не тратя лишних слов, он передает мне только одно письмо.
У него трое детей. У меня их нет.
У него есть жена, которую он любит больше всего на свете. А моя жена написала мне несколько дней тому назад, чтобы я дал ей письменное согласие на развод.
Юпп Шмитц уже пять лет в плену. Я менее четырех.
Юпп Шмитц курсант. Меня не приняли в антифашистскую школу.
Юпп Шмитц отметил в плену свое сорокалетие. Мне тридцать три года.
Юпп Шмитц верно служил большевизму. Он всегда лез из кожи вон. Даже тогда, когда добросовестно исполнял роль надзирателя на торфоразработках. Юпп Шмитц всегда был лоялен. Я нет.
Я специалист по выпуску стенгазет. Это верно.
В плену я предоставил в распоряжение большевиков свои специальные знания. В остальном я был очень сдержан. И даже особенно не скрывал этого.
Все доводы на стороне Юппа Шмитца. Нет ни одной причины, почему у меня появилось преимущество при отправке на родину.
Конечно, я тоже член Центрального антифашистского актива. Уже поэтому я никак не могу быть фашистом. Но из всех членов Центрального актива я самый ненадежный. Я имею в виду отношение к большевистской доктрине. Разумеется, я знаю ее лучше, чем многие другие члены Центрального актива. В вопросах теории я разбираюсь, по крайней мере, так же хорошо, как и Юпп Шмитц. Но я выступаю не за большевизм, а против него. В глубине души я непримиримый противник большевизма, и это чувствуется. И Юпп Шмитц чувствует это.
Разве это справедливо, что я уезжаю домой раньше Юппа Шмитца? Это несправедливо, если рассматривать Юппа Шмитца, или Эгона Крамера, или Конрада, или Вильгельма Хойшеле как личность. Но когда было такое, чтобы большевизм беспокоился о личности?
Ведь у нас нет даже биографий великих Ленина и Сталина, в европейском смысле этого слова, разумеется. Мы лишь знаем, что такого-то числа Ленин написал статью о том-то. И все, ничего личного.
Юпп Шмитц, который в качестве пропагандиста этой системы переезжает из лагеря в лагерь, ей еще нужен.
Мои услуги больше не требуются.
Поэтому Юпп Шмитц еще остается в плену. Я уезжаю домой.
Юпп Шмитц передает мне свое письмо. Я жму ему руку. Для него такая ситуация выглядит трагически. Но в этом нет моей вины.
Я облегченно перевожу дух, когда выхожу из Центрального актива и снова оказываюсь на улице.
Вильгельм Хойшеле, у которого завтра день рождения, дал мне несколько рублей, чтобы я купил ему сигареты и бутерброд.
Я должен где-нибудь купить это.
У меня совсем промокли ноги. На улице дует такой сильный ветер, что продувает мою шинель насквозь.
Не хватало еще, чтобы я не купил к дню рождения Вильгельма Хойшеле сигареты и бутерброд!
В это время достать сигареты бывает непросто.
В конце концов я нахожу одну пачку у какого-то инвалида на трамвайной остановке.
В одной из торговых палаток на Советской улице еще остались бутерброды. Я осторожно заворачиваю все в бумагу.
Как хорошо, что я дошел до этой палатки!
Этой ночью приходит приказ, согласно которому отъезжающие на родину должны приготовиться к отправке.
Моей фамилии в списке военнопленных 8-го лагеря все еще нет.
Теперь не хватало только, что мне снова придется шинковать капусту, в то время как уезжающие домой уже натягивают новенькие ватные брюки и телогрейки.
Совершенно случайно выясняется, что сегодня мне не нужно будет шинковать капусту на холодном ветру. Я занимаюсь стенгазетой, в которой уже написаны заголовки и нарисованы иллюстрации. Осталось только переписать тексты статей. Печатными буквами и черной тушью.
Тем временем Конрад отправляется в 13-й лагерь. В конце концов, должен же прийти приказ относительно меня.
Вернувшись назад, Конрад заявляет, что я не должен волноваться. Якобы Грегор лично спрашивал капитана Белорова относительно меня. В 8-й лагерь вот-вот должен поступить приказ о моей отправке домой.
Когда в два часа дня выясняется, что приказа все еще нет, я замечаю, что написал статью не под тем заголовком. Хоть волком вой от досады! Мне хочется все разорвать к чертовой матери! Но этим делу не поможешь. Выходит, что и на этот раз я не поеду домой. Для остальных членов Центрального актива не так уж и плохо, если им придется пробыть здесь еще одну зиму. Ведь они все курсанты, принявшие присягу. Если они не совершат тяжелой политической ошибки и не попадут в немилость, то получат хорошие должности.
А меня будут снова и снова опускать до состояния обычного пленного, раз я им больше не нужен.
Они снова остригут меня наголо, как каторжника. До сих пор так происходило каждую зиму.
И вдруг, совершенно неожиданно, приходит спасительная весть. Конрад сбегал еще раз в комендатуру:
— Собирайся быстрее! Через два часа вы отправляетесь на вокзал!
Я бы наверняка погиб этой зимой, если бы остался здесь! Как странно, а ведь еще пять минут тому назад я вполне допускал, что смогу пережить и эту зиму за колючей проволокой.
Но теперь у меня даже не остается времени, чтобы порадоваться.
— Включена моя фамилия в список отъезжающих? — уточняю я у немецкого врача.
— Только что приходила медсестра с приказом. Номер девяносто шесть. Ты самый последний!
Я несусь со всех ног на вещевой склад и говорю кладовщику:
— Я тоже уезжаю домой. Мне надо получить положенное мне обмундирование!
— Ты можешь взять с собой только одни ватные брюки, одну телогрейку, одну пару ботинок, одну пару рукавиц, две рубашки и две пары кальсон. Белье получишь в бане. Тебе разрешается взять с собой и один суконный пиджак. Все остальное ты обязан сдать.
— Но я хотел бы взять с собой, по крайней мере, свои суконные брюки! И шинель!
— Хорошо, я спрошу об этом у заведующего складом.
— Скажи ему, что, скорее всего, у меня дома вообще ничего не осталось.
Мне разрешают оставить себе брюки, а шинель нет. Нечего не поделаешь, попытаюсь провезти ее без разрешения.
Нет, никто не собирается проявлять великодушие, хотя нас и отправляют домой. Раньше пленные говорили: «Я бы уехал даже голым, лишь бы они отпустили меня». Но сейчас, когда это время пришло, каждый хочет провезти все, что возможно. Каждый готов дойти до последней черты в своем сопротивлении.
Некоторые надевают на себя по три пары кальсон. Под рубашку поддевают свитер. И мне тоже не хотелось бы расставаться со своими вещами. Таких вещей, которые запрещено брать с собой, набралось не так уж и много. Но вот, например, у меня есть русская рубашка-косоворотка из тончайшей ткани. С высоким воротником. Настоящий сувенир из России.