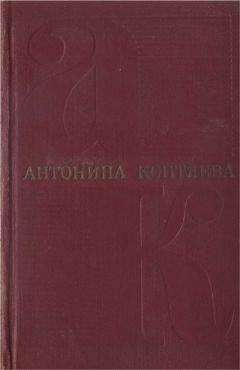— Эх! — только и промолвил Хижняк, потянув к себе сумку, присланную Наташей.
Теперь он вырывал предохранительные кольца зубами и с деловитым расчетом, морщась и напрягаясь от боли, бросал гранаты туда, где скапливались враги.
«Конечно, Наташа не успела вынести к берегу всех раненых. Ну, где там! Белый день, место открытое, обстрел, а их сотня. Если сообщили в штаб батальона, Логунов пришлет подкрепление. Должен прислать. Три гранаты осталось… Две… Каким огнем гонят сюда фашистов? Одна граната осталась… Где же замешкалось подкрепление? И неужели выбили наших из остальных пролетов?! Да, ведь мы наступать должны!»
И вдруг все исчезло.
Сияющий весенний день. Цветут сады. Словно белые облака плывут над землей — яблони распушились. Полные пригоршни розоватых вблизи лепестков держит каждая ветка. Глубина неба — сплошная прозрачная синь. Птицы щебечут. Воздух теплый, чистый, напоенный дыханием садов и влажной земли, согретой солнцем. Солнечные лучи льются прозрачными, золотыми потоками сквозь кроны деревьев, еще не одетых листьями, просвечивают нежную кипень цветения, падая на землю светлыми пятачками. В междурядьях чернеют расчесанные граблями гряды; вот-вот брызнет из них юная зелень всходов. Ах, сады! Где ж они, эти сады? Неужели в Сибири?.. И звенит, звенит не то птичий гомон, не то детский смех… Женщина идет меж цветущих яблонь с ребенком на руках. «Здравствуй, жена!»
Но звон становится нестерпимым, и Хижняк открывает тускнеющие глаза. Все насыщено грохотом боя. Дым, горькая гарь, кровь на железе, на битом камне… Кругом убитые. Исчезли сады. Не яблоко, а черная граната зажата в руке…
Фашисты уже в цехе… Если лежать неподвижно, они, может быть, прошмыгнут мимо, но как лежать неподвижно, если граната в руке? Хижняк крепче прижимается щекой к колючей щебенке и, как яблоко, тащит гранату в рот, с трудом размыкает сцепленные зубы, сжимает ими холодное кольцо, дергает его… Секунда, другая… И вдруг поднимается, залитый кровью, жарко светя синими глазами, и швыряет гранату в ощетинившихся врагов.
31
— Всего искололи ножами! А на нем и так места живого нет, — говорила Наташа, с трудом подавляя рыдания. — Платон Артемович, посмотрите: он весь изранен. Они его мертвого резали!..
Логунов, страшно осунувшийся в течение дня, молчал. Еще ни одна утрата не была так тяжела для него, как эта.
— Эх, Денис Антонович, немножко ты нас не дождался! — горестно сказал Ваня Коробов.
«Крепкий контрудар нанесли нам фашисты, — думал Логунов. — Почти никто из наших не продвинулся сегодня, а кто вырывался, сразу терял связь… Вот Коробов, вот и Денис Антонович. Но какое большое дело он совершил!»
— Нет ли у него письма неотправленного? — тихо спросила Наташа, развертывая кусок марли. Она собиралась закрыть лицо Хижняка, чтобы спокойнее лежалось ему в яме под берегом в ожидании похорон.
Логунов все так же молча опустился на колени, начал осматривать карманы товарища; вынул пачку писем, карточки жены и детей, партийный билет, машинально развернул листок бумаги, исписанный энергичным почерком.
«Мы пишем вам в разгар великого сражения под гром несмолкаемой канонады… на крутом берегу русской реки Волги… Мы клянемся вам, что до последней капли крови, до последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград».
Логунов с трудом перевел дыхание, наклонившись, поцеловал Хижняка в холодные, твердо сжатые губы:
— Ты сдержал свою клятву, Денис Антонович!
Наташа громко, совсем по-детски заплакала, вытирая слезы марлей, которую держала в руках:
— Мне жалко… я не успела… я не успела с ним поговорить… Я обидела его… Мне было тяжело, и я обидела его…
— Не плачь! — попросил Платон, вставая. — Не надо плакать. Ты зря думаешь, что он обиделся на тебя. Если тебе было тяжело, он, наверно, это почувствовал.
— Правда! — сказал Коробов, тоже расстроенный неудачей наступления и подавленный утратами. — Когда я встретил Дениса Антоновича, он сразу спросил: «Ты не знаешь, что с Наташей?»
— Он не сердился на меня?
— Ну что вы! Он беспокоился о вас, как отец.
— Пошли! — сказал Логунов Коробову.
Вдвоем они вынесли Хижняка из укрытия, вырытого под нагревательной печью. Им не хотелось передавать погибшего товарища санитарам. Они сами решили отдать ему последний долг.
Наташа смотрела, как они, пригнувшись, быстро удалялись по траншее, унося тело Хижняка. Она не могла провожать Дениса Антоновича; за ее спиной стонали раненые, которым требовалась помощь.
32
После совещания с офицерами штаба армии Чуйков всю ночь не спал. Угрюмый, взлохмаченный, шагал он взад и вперед по своему подземному кабинету, подходил к письменному столу; опершись на него ладонями, подолгу всматривался в план города, испещренный пометками, в схему расположения войск, потом снова шагал и думал, думал…
Несколько раз адъютант предлагал ему отдохнуть, но командарм только отмахивался.
«Такую оборону выстояли, а наступление не получилось». — Чуйков насупил густые брови, он был тоже расстроен, даже обозлен, но растерянности не чувствовал.
«В чем дело? На флангах, на дальних подступах, в степях наступление пошло успешно, а здесь, в городских развалинах, линия фронта не сдвинулась. Что же надо предпринять, чтобы обеспечить успех?»
Душно в блиндаже, вырытом в береговом обрыве и обшитом тесом. Да еще печь топится… Сильная тяга в этих печах, сделанных из железных бочек. Так и гудят… Надо сказать, чтобы прекратили топку. Пальцы у командарма забинтованы: начинает одолевать нервная экзема. Так бы и рванул эту мешающую повязку. Чуйков берет белыми куколками пальцев карандаш, подтягивает поближе схему… Да, не продвинулись… Некоторые штурмовые группы вырывались вперед, но тотчас стремились выровнять линию фронта… «Отступали, — подсказывает внутренний голос проклятое слово. — Да, отступали. Так и группа Коробова… В обороне Коробов держался как несокрушимая твердыня, а здесь подался назад. Да, да, отступил. Вот тоже нервная экзема! Существует на свете всякая дрянь!» Карандаш ломается, Чуйков отбрасывает его и тянется за другим. Душевное напряжение сказывается в легком ознобе. Командарм встает, не замечая адъютанта и связистов, привычно занятых у телефонов. На стенах карты. Одна дверь — на выход, другая — в смежную комнату. В тамбуре тихо сидят связные. Командарм ходит и думает; забывшись, сжимает забинтованные руки, крепко потирает их… Потом снова вызывает к себе начальника штаба армии генерала Крылова.
— Вы говорили, Николай Иванович: «Сейчас нам наступать да наступать». И я так говорил. Но на деле вышло иное, — без предисловий сказал он вошедшему Крылову.
— Я после совещания глаз не сомкнул, — ответил Крылов. — Все думал… Фронт у нас необычный, и руководить мы должны не по шаблону…
— Вот именно! — быстро отозвался Чуйков. — Сейчас перед нами задача наступать. Но вопрос — как наступать! И мы с тобой обязаны ответить. Иначе грош нам цена. Я тут тоже думал… Если бы предстояло гнать немцев за Дон, то к нам, в Сталинград, массу сил бросили бы! Но главный наступательный удар с флангов сделан. Под ударами Донского и Юго-Западного фронтов армии врага могут хлынуть к Волге. Несколько сот тысяч гитлеровцев, вооруженных, озлобленных… Мы должны, наступая, выбивая из развалин фашистов, засевших здесь, в Сталинграде, превратиться в несокрушимый заслон и против той лавины. Конечно, ее будут рассекать с флангов, но часть окруженных войск все же прорвется сюда, и она может смять нас, как бешеный табун в степи, уходящий от пожара. Все зависит от того, как мы перестроимся. Надо нам немедленно изменить всю тактику нашего наступления!
…Перед рассветом Чуйков собрал командиров частей. Входили они без шума, чувствовали: командарм крепко не в духе, да и все-то были мрачноваты.
— Ну, товарищи, — Чуйков зорко оглянул собравшихся, — рассказывайте: с какими трудностями вы встретились вчера?
Логунов слушал, готовился выступить и заранее волновался. Основные жалобы младших командиров, которые он принес сюда: утрата связи во время прорывов вперед. Сам он хотел рассказать о невероятной сложности руководства мелкими группами в условиях наступления.
Логунов вздохнул облегченно, услышав, что и другие говорили о том же. Не боясь высказать правду, он опасался, как бы не прозвучали его слова легковесно: а может быть, он просто не сумел руководить.
Очередь до него дошла быстро. Он встал, вспомнил о Хижняке и высказал все, что накипело у него на сердце, вплоть до слов Коробова насчет игры в шашки…
— Коробов не отступил бы зря.
— Почему же вы не поддержали его? Не помогли развить успех наступления на этом участке? — спросил Чуйков.
— Потому что Коробов сразу оторвался от нас. А на его позицию хлынули фашисты, и надо было думать о том, чтобы не пустить их туда. Хорошо, что он пробился обратно. Иначе мы потеряли бы эту штурмовую группу, да нас еще потеснили бы, забрав в плен до сотни раненых, и не забрали бы, а просто уничтожили, и все.