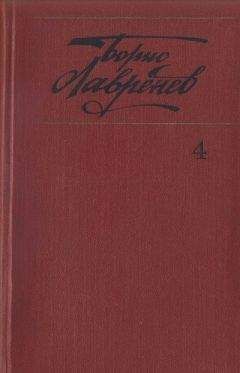— А винцо лихое, — прищурился один из гребцов, разглядывая сквозь щель ящика бутылку. — Чего написано, не разберешь. Не по-нашему. Видать, почище нашей сивухи.
— Для охвицерского пуза робили, — отозвался Данильченко. — В их кишка деликатная, тонкости ей треба.
Матросы жадно и угрюмо смотрели на бутылку, блестевшую на солнце.
«Разохотились, черти. Не иначе, как сопрут», — подумал Кострецов, и, несмотря на жару, по спине у него прошел холодок. Но забеспокоившийся мозг нашел неожиданный выход из положения.
— Не трожьте, ребята, я вас богом прошу. А коли хотите выпить, так и быть — я угощаю.
Кострецов порылся в кармане, вытащил платок, развязал узел и медленно отсчитал семьдесят пять копеек.
— Данильченко! Слетай в бакалею, возьми на всю бражку четверть балаклавского красного. Выпьете, ребята, по-честному, и хватит. А офицерского добра не касайтесь, ну его коту в задницу.
— Вот это спасибо, Никита.
— Уважил.
Гребцы повеселели. Данильченко побежкой поднялся в гору и вскоре показался снова, таща под мышкой четвертную бутыль, в которой, розово пенясь, плясало вино.
Бутыль спрятали в баковый ящик и накрыли брезентом. Протащить ее на корабль в ералаше разгрузки было уже пустым делом. И не такие штуки проделывались на глазах у вахтенного начальника. Железные тиски дисциплины рождали всякие ухищрения, и матросы умели находить лазейки.
— Ну, ребята, пора. И чур молчок! — предупредил Кострецов, залезая на транец.
Было действительно время возвращаться. Пришедший с моря корабль уже приближался к бочке. Довольные кострецовским угощением, гребцы нажимали весело и лихо, и почти в ту минуту, когда корабль окончил постановку на якорь, баркас подошел к борту и, получив распоряжение боцмана, встал на разгрузку под кран.
Четвертную, укутанную в брезент, благополучно принял с баркаса через полупортик Данильченко и стащил в угол тросовой камеры. Окончив разгрузку, Кострецов отвел баркас на бакштов, назначил дежурного гребца и, облегченно вздохнув, выбрался на палубу.
После ужина в кают-компании осталось несколько человек. Верхнюю люстру погасили, только настольные лампы из-под оранжевых куполов абажуров лили розовато-желтый свет.
Оставшиеся разделились на две группки. Одна собралась у рояля, где мичман Горловский вполголоса пел французские шансонетки. Мичман прекрасно имитировал манеру пения парижских певичек, мурлыча текст мягкой картавой скороговоркой. Фривольные словечки песенок вызывали приглушенные вспышки смеха. Горловский, ободренный сочувственным вниманием, переходил от песенки к песенке. Черные маслины его глаз весело блестели, холеные пальцы легко бегали по клавишам.
Глеб сперва посидел возле Горловского, но его внимание привлек разговор собравшихся на диване за круглым столом. Там устроились лейтенант Калинин, старший штурман, старлейт Вонсович, огненно-рыжий, поразительно напоминающий цветом волос, лицом и влажными собачьими глазами ирландского сеттера, водолазный и трюмный механики и мичман Лобойко, незаметный рахитичный мальчик, беспрерывно куривший папиросу за папиросой. О нем ходила среди офицеров шутка, что никто на корабле не знает, как выглядит Лобойко, потому что невозможно разглядеть его лица за вечной пеленой табачного дыма.
— Присаживайтесь, дитя природы, — пригласил подошедшего Глеба Вонсович. — Кстати, вас можно поздравить с боевым крещением. Даже жестокосердный Навуходоносор от артиллерии, — Вонсович кивнул на Калинина, — излил на вас елей похвалы.
Глеб вспыхнул удовольствием.
Утренняя стрельба прошла удачно для корабля и для Глеба. Во-первых, из четырнадцати бортовых залпов (стрельба велась на пятьдесят кабельтовых) девять залпов дали накрытие по щиту, пять легли небольшими недолетами. На стрельбе побашенно левая носовая шестидюймовая дала два накрытия из пяти выстрелов, и Глеб, зардевшись, как девчонка, выслушал в телефонную трубку похвалу Калинина из боевой рубки. Боязнь осрамиться оказалась напрасной, и Глеб ходил именинником.
Чувствуя себя отныне равноправным членом офицерской семьи, Глеб с преувеличенной небрежностью развалился на диване рядом с Вонсовичем.
— Ну, ври, сын человеческий, дальше, — сказал Вонсович Лобойко, возобновляя прерванный разговор.
— Почему же я вру? — возмутился мичман, исчезая за клубом дыма. — Ей-богу, что слышал, то и передаю. Дивизион только что пришел из похода, я торопился к ужину и на пристани встретил Витьку Щербачева. Он клялся и божился, что так и было. Они прошли вдоль румынского берега и подошли к ложному Босфору. Четыре часа утра, солнце на месте, но горизонт парит, и такая дымка. И вдруг сразу из дымки полным ходом вылазит он…
— Кто это? — перебил Глеб, не слышавший начала рассказа.
— Ну кто? «Бреслау». Длинный корпус, четыре трубы и прет, как бешеная лошадь. У носа бурун в две сажени, и прямо на дивизион.
— Это только от твоего носа такой бурун идет, когда ты у дамской купальни плаваешь, — вставил водолазный механик Спесивцев.
— К чертям! Если будете издеваться, я брошу рассказывать, — окончательно взорвался Лобойко. — Что за свинство, в самом деле?
— Не буду, — Спесивцев прикрыл рот рукой, пряча предательский смешок.
— Да… И, понимаете, без флага. Никакого флага. Ни немецкого, ни турецкого, вообще на гафеле пустое место. Тогда наши бьют боевую тревогу и ворочают строем пеленга для атаки.
— То есть как для атаки? — спросил Калинин, недоуменно приподняв бровь и воткнув в Лобойко колючий взгляд. — Мы же с Турцией еще не воюем? Что вы?
— Ну, не знаю, — сразу замявшись, ответил Лобойко. — Наверное, хотели пугнуть только, чтобы обнаружил флаг, а он, не показывая нации, шестнадцать румбов кругом — и наутек. Наши его до входа гнали. Только у самого пролива назад повернули. И сейчас же радио в штаб. А ведь здесь никто ничего и не знал. Витька говорит, что он явно держал курс на Севастополь!
— А зачем?
— Что, вы не знаете немцев? Такие нахалы и сволочь — хуже турок. Ясно, шел к Севастополю набросать мины. А там ищи-свищи, когда взорвешься.
Калинин встал. Дрогнув, блеснул на кителе георгиевский крест.
— Пойдите, мичман, прикажите вестовому приготовить вам холодный душ и облейтесь. Что за чушь? Какой-то идиот наболтал вам вздора, а вы повторяете, даже не потрудившись подумать. Почему «Бреслау» должен непременно набрасывать мины? Ведь и наш дивизион ходил к Босфору. По вашей логике выходит, что мы тоже могли набросать мин? Ерунда! Просто выходил корабль в море, как каждый день выходим мы, а Трубецкой авантюрист и полез на рожон. Только напрасно раздражает турок и получит хороший фитиль.
Лобойко смяк и потупился. Спесивцев смешливо покосился на него.
— Вот если б Леонид командовал дивизионом, уж он бы, наверное, попер бы за «Бреслау» в Босфор и привез бы Магомета Пятого.
Лобойко открыл рот, чтобы срезать шутника, но в это время к сидевшим подошел ревизор.
Ревизора не любил весь корабль от командира до последнего захудалейшего кочегаришки. Лейтенант Вейс дер Моон (матросы лихо переименовали эту тяжелую фамилию в понятное русское словцо: «Весь дерьмо-он») был примерным офицером. Он прекрасно знал службу, был безукоризненно честен, к его рукам не прилипла ни одна казенная копейка, не ругался, не дрался, был, в сущности, справедлив, кормил команду отлично, и тем не менее его ненавидели даже тараканы на корабле, хотя он подавал к такой ненависти гораздо меньше повода, чем командир корабля капитан первого ранга Коварский.
Вероятной причиной этого всеобщего отвращения была скучная дубовая педантичность и аккуратность лейтенанта и его нечеловеческое бездушие. Дер Моон был похож на заведенный раз навсегда механизм, тикающий неумолимо и тоскливо, как секундный метроном. Никогда никто не видел, чтобы он улыбнулся или огорчился. Белое, продолговатое, очень правильное лицо над накрахмаленным воротником кителя было всегда невозмутимо и неподвижно, как маска. Однотонный, чертовски скучный голос ревизора вызывал у офицеров отвращение.
Поэтому при приближении ревизора все замолчали. Дер Моон обвел сидящих равнодушными блекло-серыми глазами и, обращаясь к Вонсовичу, спросил скрипуче:
— Не знаете, Владимир Михайлович, старший офицер у себя?
— Вероятно. А что случилось?
— Очень неприятный случай. При подсчете привезенного сегодня с берега провианта, проверяя, совместно с буфетчиком, наличность продуктов и соответствие привезенного накладным и фактурам, я обнаружил недостачу количества вина. Не хватало трех бутылок шампанского и семи бутылок марсалы, — ответил дер Моон деревянным тоном, без всякой модуляции. — Я распорядился немедленно осмотреть баркас, и три пропавшие бутылки шампанского были найдены унтер-офицером Волынкиным в глубине бакового ящика, а вышеупомянутые семь бутылок марсалы нигде не удалось обнаружить.