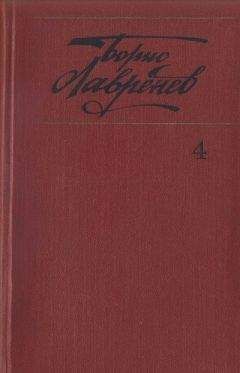Старший офицер вышел наконец из задумчивости и, вскинув глаза на деревянно застывшего ревизора, осторожно сказал:
— Все-таки жаль хорошего матроса, Магнус Карлович. Может быть, как-нибудь замять эту гадость? Я уверен, что он лично не повинен, а виновника найти трудно. Спишите эти злосчастные бутылки в бой.
Впервые на маске ревизора отразилось какое-то чувство, похожее на негодование.
— Я не могу соглашаться на служебное преступление, — ответил он. — Если я спишу бутылки, это будет подлог. Если вы не согласитесь с моим мнением, господин кавторанг, я буду вынужден подать рапорт командиру.
Может быть, другой старший офицер на месте Лосева поставил бы зарвавшегося подчиненного на должное место, но Лосев всецело соответствовал характеристике, данной ему Калининым. Он был труслив и больше всего боялся портить отношения на корабле. И, сделав гримасу отвращения, как будто глотая порошок хины, Лосев хмуро сказал:
— Ну, как хотите, Магнус Карлович. Это ваше дело. Кому только дать дознание? Сейчас у всех дела по горло.
Это была последняя уловка отвязаться от ревизора. Но дер Моон, подумав секунду, подсказал выход:
— У нас есть новый офицер, мичман Алябьев. Его нужно приучать к морской службе по всем отраслям, и он более свободен, чем остальные. Для него это будет практика.
Больше лазеек не оставалось, и Лосев согласился.
— Отлично. Будьте добры, Магнус Карлович, прикажите вестовому, чтобы он позвал мичмана Алябьева ко мне.
Ревизор встал, поклонился прямой спиной и вышел. Кавторанг Лосев тяжко вздохнул и снова зарылся в боевое расписании.
* * *
Кострецов стоит навытяжку перед Глебом, так же, как стоял предыдущим вечером перед Ищенко, и так же неподвижно глядит на блестящий медный карабин иллюминатора. Он рассказал все, что знал. Больше говорить нечего.
— Значит, когда ты увидел, что матросов соблазняет вид бутылок и они могут похитить чужое имущество, ты, чтобы спасти его от расхищения, на собственные деньги купил для команды угощение?
— Так точно, вашскородь, — уныло говорит Кострецов. — Дал Данильченке семь гривен с пятаком. «Возьми, грю, четверть балаклавского и выпейте, а офицерского не трожьте». На совесть людскую понадеялся, вашскородь, а мне вон какую свинью подложили.
Глеб пожимает плечами. Совершенно идиотское дело. Абсолютно же ясно, что Кострецов не только не виноват, но, наоборот, принял все меры к спасению офицерского вина, пожертвовав для этого своими грошами. Нужно скорей кончать эту глупость. Действительно, ревизор потрясающий дурак и сутяга.
— Ну, а кто на баркасе вообще особенно интересовался вином? Кто первый заговорил о вине?
Кострецов отрывает глаза от иллюминатора и смотрит на мичмана, сминая в руке фуражку.
— Хто? Наперво, вашскородь, должно быть, Тюнтин, а после Данильченко.
— Так, может быть, кто-нибудь из них двоих и спрятал эти бутылки?
Кострецов задумчиво взглядывает на свои ботинки. Но сейчас же вскидывает голову и уверенно говорит:
— Никак нет, вашскородь. Тюнтин наперво в рот не берет напитков, а с бутылкой шалил так, для озорства. А Данильченко мне друг и в жизнь мне бы такого позору не сделал.
— Следовательно, ты ни на кого прямого подозрения не можешь высказать?
— Никак нет, вашскородь. За всеми разве углядишь?
В самом деле, на баркасе было двадцать два гребца. Не выпустить никого из наблюдения — невыполнимая задача для одного человека, которому нужно и управляться с посудиной, и отвечать за нее. Кто-то словчился под шумок упрятать эти паршивые десять бутылок, из-за которых пущена в ход громоздкая машина военного правосудия. Слепая Фемида грозит вот этому отличному, безукоризненному матросу тяжелыми карами. 161-я статья шестнадцатой книги Свода морских постановлений непреложна. Она обещает каждому: «за кражу, умышленное истребление и повреждение имущества, виновные в сем нижние чины, охраняющие имущество сторожевым порядком, а равно дежурные, дневальные и прочие должностные лица, коим поручено наблюдение за целостью имущества, подвергаются: потере некоторых прав и преимуществ по службе и отдаче в дисциплинарные баталионы или роты, от одного года до трех лет, или одиночному заключению в военно-морской тюрьме от трех до четырех месяцев».
Глеб еще раз перечел прочтенную утром перед дознанием статью.
Как глупо! Вот две чаши весов. На одной — живой человек, исправный служака, несомненно честный парень Кострецов, на другой — семь бутылок марсалы десятирублевой цены. И эти бутылки, с прибавкой к ним ревизорового идиотизма, перетягивают живого человека и открывают перед ним зловонную дверь каземата.
Глеб внимательно смотрит на похудевшее лицо Кострецова.
Какие мысли бушуют сейчас в его понуренной, стриженной под машинку голове?
Глебу хочется ободрить Кострецова.
— Ну, вот что, Кострецов. Ты не унывай. Я думаю, что дело можно прекратить. Что ты не брал вина, это ясно, а найти, кто его взял, невозможно.
Слабая искорка радости вспыхивает в глазах Кострецова. Мичман, конечно, понимает дело. На то и учился. В самом деле, не пропадать же ему, Кострецову, из-за чертовой марсалы, которой он никогда в жизни не пробовал и не попробует. И мичман, видать, добрый и душевный и не хочет кострецовской погибели.
И взволнованный Кострецов от сердца говорит:
— Покорно благодарю, вашскородь. Дай вам господь здоровья.
— Не за что. Можешь идти.
Куда идти Кострецову? За дверью мичманской каюты дожидается часовой. С полночи Кострецова отвели, как подследственного, в карцер. Пока еще мичман покончит с дознанием — придется посидеть. И Кострецов сумрачно выходит в коридор.
Он идет на цыпочках, стараясь быть бесшумным, и за ним, как тень, идет часовой, тускло поблескивая штыком.
Глеб допросил Данильченко, Тюнтина и еще нескольких гребцов. Все они в один голос показали, что Кострецов вина не трогал, а кто взял — неизвестно.
Отпустив последнего допрашиваемого, Глеб решительно написал заключение, что по обстоятельствам дела ясна полная невиновность Кострецова, принявшего все меры к предотвращению пропажи вина и поплатившегося даже собственным карманом для охраны офицерского имущества, а потому дело подлежит прекращению.
Подписался, сложил листки дознания в папку и с облегченным сердцем вышел на палубу. От сознания, Что сейчас он сделал доброе и справедливое дело, полуденное пылающее небо показалось ему голубее, чем обычно, и даже мрачная фигура командира, прогуливающегося на правой стороне шканцев, стала как-то светлее.
Капитан Коварский ежедневно перед полуднем выходил на шканцы и медленно мерил их взад и вперед в течение получаса. Он называл это предобеденным моционом. Как и всегда при его появлении, все живое, находившееся на шканцах, как ветром смело на левую сторону, и на правой остались только двое матросов, красивших отдушины палубных люков.
По пустынному пространству палубы одиноко и угрюмо шествовал командир, как зачумленный, от которого бегут все.
Вековые традиции и требования устава ставили его на корабле в странное, почти таинственное положение. Полновластный владыка, корабельный самодержец, могущий в любой момент, пользуясь особыми полномочиями, приговорить любого из команды к смерти и немедленно выполнить приговор, он был отрезан от всего корабля, от его обыденной жизни.
Ему одному, как полномочному представителю империи, было доверено безусловное охранение чести русского флага. Он единственный из всего офицерского состава назначался на корабль не приказом по морскому ведомству, а именным высочайшим приказом. Он читал по воскресеньям на шканцах всему собранию служащих на корабле законы, «дабы никто не мог потом отговариваться незнанием оных». Он распоряжался людьми и вещами, имел власть прекращать заразные и прилипчивые болезни, он мог назначать и отменять богослужения.
Только он имел на корабле отдельное, особое роскошное помещение из нескольких кают, в то время как не только матросы, по и младшие офицеры теснились нередко по два-три человека в крошечных каморках, а то и просто в «занавешенных местах». Это было компенсацией за статью устава, гласящую, что «командир, по мере возможности, должен не покидать корабля». Правда, статья давно стала фикцией, но компенсация продолжала оставаться реальной.
И он жил в своем помещении, как отшельник, окруженный ореолом таинственности и власти, и даже не разделял стола с офицерами, за исключением редких дней, когда по приглашению подчиненных он снисходил до появления за кают-компанейским столом. Только он один имел право подходить на катере к кораблю с правого парадного трапа и занимать одной своей персоной всю правую сторону шканцев, откуда немедленно должны были удаляться все остальные. Исключение делалось только для вахтенного начальника.