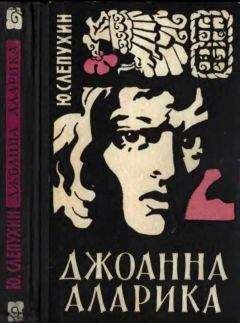– А-а, ферштее, – сказал Володя, нарочито искажая произношение, – айн момент, битте...
Он торопливо полез в карман и подал немцу свой аусвайс. Немец, видимо удивленный, взял документ, просмотрел его и, пожав плечами, вернул Володе.
– Geh weiter! – рявкнул он. – Aber schnell![38]
Володя сунул аусвайс обратно в карман и пошел прочь. Все было теперь ясно: Николаева схвачена гестапо. Не помня себя, он ходил по улицам, пока не наступил полицейский час. Нужно было провести где-то ночь: он вспомнил, что поблизости живет Мишка-подрывник, бывший сапер. Мишка оказался дома.
– У Николаевой обыск, – сказал Володя. – Можно здесь переночевать?
– Ночуй, раз нужно, чего спрашивать-то, – ответил Мишка. – Выходит, ее тоже загребли?
– Боюсь, что да, – с трудом выговорил Володя. Как трудно оказалось произнести это вслух!
– Понятно, – сказал Мишка. – Хреновое получается дело. Как же теперь?
– Руководство переходит к запасному центру, ты же знаешь. Он и решит.
Мишка долго молчал, потом сказал:
– Не с того конца брался за это Алексей, вечная ему память. Рвать надо было сукиных сынов безо всякой пощады! А то погибли люди, а толку чуть...
– Ерунда, – сказал Володя. Он сам когда-то говорил это же Кривошеину, но сейчас почему-то не мог согласиться с Мишкой. – Критиковать легче всего. Попробовал бы ты руководить, когда на твоей ответственности живые люди! Алексей все делал как надо, задача подполья была не в том, чтобы заниматься диверсиями. Если бы мы с самого начала занялись диверсиями, никакого подполья не было бы.
– Так его, может, и так не будет.
– Будет, Мишка, всех не перебьют. Ты когда завтра встаешь?
– В шесть, как всегда. Слыхал? Немец вроде снова в наступление попер, на Курск...
– В шесть, это хорошо, – задумчиво сказал Володя. – Послушай, у тебя вроде был какой-то плащ?
– Ну, есть старый, милицейский, – удивленно сказал тот. – А что?
– Дай мне его завтра, ладно?
Мишка пожал плечами.
– Да бери, если надо. – Он посмотрел на Володю с недоумением. – А зачем тебе?
– Нужен.
– Бери, – повторил Мишка. – Я тебе его подстелю, помягче будет, а утром бери. Собрался, что ли, куда?
Володя ничего не ответил.
Позже, когда они уже легли и погасили свет, Мишка сказал:
– Вовка, слышь... Ты если чего задумал, давай лучше посоветуемся, а? Ты не думай, что я не доверяю тебе или там что другое... Я только помню, как мне Алексей говорил – помнишь, прошлым летом ангар подорвали? – так он мне сказал тогда, как шли, чтобы я за тобой приглядывал. Ты не думай, он ничего плохого про тебя не думал, а сказал в таком смысле, что, мол, хлопец горячий – как бы лишней беды часом не наделал...
Володя ничего не ответил – притворился спящим.
Как ни странно, ему удалось заснуть. Спал он, как камень, без сновидений, и проснулся очень рано, едва забрезжил рассвет за окошком. Сразу все вспомнив, он поднялся, обулся без шума, взял с полу постеленный Мишкой плащ. Мишка спал, ровно похрапывая. На столе лежали его часы – старые, большие, Кировского завода, с облезлой металлической решеткой, защищающей стекло. Поколебавшись, Володя взял часы и огрызком карандаша написал на полях газеты:
«Миша, извини, пришлось забрать твои часы. Очень нужно, иначе не взял бы. Будь здоров и передай привет ребятам. С комсомольским приветом!» Он машинально отметил стилистическую небрежность – два «привета» рядом – и тут же удивился, на какие мелочи обращаешь иногда внимание в самые неподходящие для этого минуты. Потом застегнул на руке истрепанный часовой ремешок, накинул на плечи шуршащий, остро пахнущий резиной плащ и вышел из комнатки.
Таню разбудили на рассвете. Переводчик вошел в кладовую с фонарем в руке и толкнул ее сапогом.
– Вставай! – крикнул он, злой со вчерашнего похмелья, а может и оттого, что пришлось встать так рано. – Разоспалась, стерва!
Таня испуганно вскочила, еще ничего не соображая. Потом сообразила. Потом ей опять показалось, что это не на самом деле.
– Где мне можно умыться? – спросила она робко, опасливо глядя на переводчика.
– Иди, иди! – крикнул тот, схватив ее за плечо и швыряя к двери – она едва удержалась на ногах. – Мыться ей подавай! Подожди, приедешь в гестапо – там тебя умоют...
В коридоре, тускло освещенном пыльной электрической лампочкой, ее ждали начальник шуцманшафта и пожилой усатый полицай с винтовкой. Они вышли на заднее крыльцо. Стоял тихий туманный рассвет, трава казалась седой от обильной росы, хорошо, по-деревенскому, пахло конюшней и горьковатым дымком горящей соломы. У крыльца смирно стояла понурая лошаденка, запряженная в рессорную одноколку «бидарку».
– Давай садись! – приказал Тане начальник шуцманшафта. Она, съежившись словно в ожидании удара, сошла с крыльца и с трудом вскарабкалась в тележку, – круглый железный приступочек был высоко, мешала узкая юбка. Таню с каждой минутой трясло все сильнее и сильнее – она была в одной тоненькой блузке, утренний холод пробирал до костей. Плащ и чемоданчик, где был жакет, остались в ее вчерашней комнате, – о них, видимо, забыли.
– ...Сдашь ее у комиссариате, – говорил полицаю начальник, – только швыдче езжай, бо справа спешная. Понял?
– Так точно, – ответил полицай, перекидывая через плечо карабин. – Мабуть, к обеду доедем...
– Ну, давай. Расписку только возьмешь!
Одноколка заскрипела и накренилась под тяжестью усевшегося рядом с Таней полицая. Он размотал вожжи, похлопал себя по карманам, устроился поудобнее. Таня отодвинулась от него в самый угол, узкое сиденье было холодным и влажным от росы. «Сиди, места хватит», – буркнул полицай, и они тронулись, покачиваясь на выбоинах.
Они обогнули дом. У парадного крыльца стоял с поднятым верхом большой темно-серый «майбах» имперского советника, стекла машины запотели, крылья и капот были покрыты бисером росы. Когда они проезжали мимо, на крыльцо выбежал переводчик.
– Стой! – крикнул он. – Давай-ка сюда, красавица!
Полицай натянул вожжи, Таня с заколотившимся вдруг сердцем спрыгнула на землю и пошла к крыльцу. «Вдруг это все было шуткой!» – мелькнула у нее сумасшедшая надежда.
Переводчик провел ее в комнату Ренатуса. Тот сидел за столом в теплой домашней куртке с гусарскими шнурами на груди, уже свежевыбритый, со своим обычным патрициански снисходительным выражением лица.
– Садитесь, – сказал он коротко, когда переводчик осторожно прикрыл дверь за Таней.
Она несмело подошла к столу, села.
– Вы думали над нашим вчерашним разговором? – спросил Ренатус.
– Нет, – тихо сказала Таня.
– Не успели? Или не сочли нужным?
– Не сочла нужным...
Ренатус смотрел на нее, иронически улыбаясь.
– Как трудно спасать человека против его желания! – сказал он. – А я ведь даже придумал новый, более удобный для вас вариант. Вам вообще не нужно ехать в Энск. К чему, в сущности? Все то, что вы должны были бы пообещать там, вы можете пообещать здесь, у меня достаточно полномочий для такой сделки, Я просто позвоню в Энск и скажу, что вопрос улажен. Подумайте, моя милая. Я предлагаю вам лишь то, что обычно предлагают сплоховавшим разведчикам. Пусть вас не пугает возможность разоблачения своими, это исключено. Если бы вас арестовали в Энске и потом выпустили, это насторожило бы ваших товарищей, я согласен. Но вас не арестовывали, вы уехали свободным человеком в служебную поездку и через неделю вернетесь как ни в чем не бывало. Ни одна душа не узнает о том, что произошло здесь. В моих силах обеспечить... надежное молчание всех этих людей, переводчика и ему подобных. Пусть все случившееся останется у вас в памяти как тяжелый сон. Скажите «да», и я распоряжусь...
Он поглядел в окно, где полицай, уныло сгорбившись на сиденье, натрушивал из кисета махорку в согнутый желобком обрывок газеты.
– ...чтобы этот бравый казак распряг свою колесницу и отправлялся на печку. А мы с вами позавтракаем, отдохнем от всех этих тревог и поедем дальше...
– Нет, – с трудом выговорила Таня. Ренатус поднял плечи и развел руками:
– Ну что ж!
Таня встала, глядя в стену поверх его головы.
– Скажите... вы производите впечатление начитанной девушки, – непринужденным тоном сказал Ренатус и взял из ящика на столе сигару. – Вам известно, кто был Понтий Пилат?
– Да.
– Прекрасно. В таком случае, вы поймете, если я скажу вам, что умываю руки. Переводчик!
Тот стремительно ворвался в комнату:
– Слушаюсь, господин имперский советник!
Ренатус, не глядя на него, обрезал сигару и с наслаждением понюхал ее.
– Мне искренне жаль вас, – благодушно сказал он, – но вы сами избрали свою судьбу. Отныне она меня не интересует, я избегаю думать о печальных вещах...