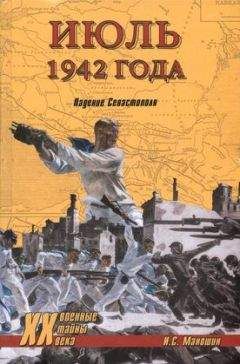Мне не хотелось вдаваться в дискуссию. Тем не менее я уточнил:
– Речь шла об идеях восемнадцатого века. Эпохи Просвещения.
– Ну да, об идеях. Идеалах. Гильотина как воплощение равенства и человеколюбия. Помните, что говорили французские революционеры? Я интересовался вопросом. В Германии теперь тоже пользуются этим человеколюбивым орудием. Думаю, со временем мы начнем применять его и в России. Когда будет меньше работы. А пока… Ну, вот мы и пришли.
Будучи погруженным в собственные мысли, я давно не обращал внимания на дорогу и теперь удивился тому, как далеко мы забрели. Когда я поднял голову, в мой левый глаз ударил солнечный луч. Место казалось знакомым. Судя по шуму и запаху, неподалеку находился вокзал. Людей вокруг не наблюдалось. Часовой с винтовкой являл собою воплощение идеи одиночества. Рядом с ним возвышалось знакомое мне с мая сооружение из прямоугольной арматуры. Оно производило впечатление весьма надежной конструкции. На фоне предзакатного солнца чернели силуэты подвешенных тел.
– Ваша вторая слева, – пояснил заботливо Лист. – Считайте, что вам повезло.
– Почему? – спросил я механически. Глаза слезились от бившего в них солнца, и я не мог вглядеться толком в картину передо мной. Контуры убитых расплывались. Но всё-таки я понял.
– Chissà, что пришло бы им в голову, – щегольнул оберштурмфюрер скромным знанием моего языка. – Это могло быть эффектно – похищение репортера миланской газеты симферопольскими подпольщиками.
Валя висела очень прямо и казалась выше, чем была. Руки за спиной и ноги были крепко стянуты. То ли веревкой, то ли проволокой. Сильные руки, ноги танцовщицы и физкультурницы. Черная юбка, белая блузка. Когда-то белая, а теперь…
– Телефонный провод, – объяснил мне Лист, – некоторые брыкаются, и в принципе их можно понять. Справа от нее – ее товарка. Узнаете?
Такой же прямой и тоже выше, чем обычно, выглядела Надя. Головы обеих лежали, завалившись на плечо. У Вали на правое, у Нади – на левое. Лиц, по счастью, видно не было. Босые стопы были напряженно вытянуты, как будто девочки старались дотянуться до земли. Часовой отодвинулся в сторону, чтобы мы лучше могли рассмотреть. Лист прикоснулся кожаной тетрадью к козырьку фуражки. Повернувшись ко мне, сказал:
– Не самый сложный случай, Росси. Их не пришлось долго допрашивать. Всю группу сдал один из своих, вон тот, что крайний справа. Очень разговорчивый был молодой человек.
Он явно ожидал вопроса, отчего столь сурово обошлись с разговорчивым молодым человеком, но я не спросил ни о чем, будучи не в силах оторваться от страшного зрелища. Мимо неровным строем прошел десяток добровольцев. Потом какой-то солдат, до пояса голый, отдав Листу честь поворотом головы, пронес ведро с помоями, ступая сапогами по теням. Из распахнувшихся ворот выкатился крытый брезентом грузовик.
– Можно подойти поближе, – сказал мне негромко Лист. – Однако не рекомендую. Зрелище не из приятных. Ужасно, когда приходится ликвидировать женщин. Тем более молодых и красивых. Я стараюсь избегать этого. Например, когда одна прекрасная полька просила меня о внесении ее в народный список, я бессовестно закрыл глаза на явно еврейские губки. Они были такими чувственными. И многое обещали. Но я не воспользовался. Ужасно. Вы говорили об идеалах века Просвещения, да?
Я твердо стоял на ногах. Не произнося ни слова. Не в силах думать, не в силах жить. Но все же стоял. Не падал. Сказывалась закалка участника третьей по счету войны. Лист раскрыл свою кожаную тетрадь.
– Теперь подробности. Имена казненных. Давайте слева направо, мы все-таки не евреи. Степан Макарчук, Валентина Орловская, Надежда Лазарева, Федор Волошин. Крайний справа – Евгений Ващенко, по сообщению которого и выявлена группа.
Я продолжал молчать. Надино платьице в синий горошек, все в каких-то темных пятнах, не прикрывало колен. Едва доходило до середины бедра. Ноги тоже были покрыты пятнами. И руки. И у Нади, и у Вали.
Листу явно хотелось поделиться со мною подробностями. Не дождавшись от меня вопроса о Ващенко, он сказал:
– Вы наверняка хотите знать, почему повесили и информатора?
Я не хотел, однако Лист продолжил:
– Дело в том, что во время очной ставки с арестованными его опознал наш сотрудник. Тайный, но не для меня, член Организации украинских националистов. Оказалось, что Ващенко был из той же организации. Но… принадлежал другой фракции. Вы слушаете?
Я машинально кивнул и неловко качнулся. Надя и Валя умерли не сразу, они задыхались, искали опоры. Быть может, несколько минут. Здесь, на этом месте, несколько дней назад. Быть может, вчера. Быть может, раньше.
– Это невероятно занимательно, – рассказывал Лист. – Одна фракция во всем послушна нам, другая же вообразила, что может использовать военные успехи Великогерманской империи в собственных интересах. Нахалы. Это так называемые «бандеровцы», их вождя зовут Бандера. Забавное имя для итальянского уха, не правда ли?
Макарчук был плотным, крепко сбитым и очень молодым человеком, похоже недавним школьником. Телеграфный провод врезался в его надувшиеся мышцы. Он словно бы силился сбросить мерзостные путы – и сделал бы это, если бы под тяжестью тела не переломились позвонки. Черный рот был открыт, казалось, что он кричит.
– Бандеровцы тоже полезные люди, но наверху решили, что их идеология неприемлема для империи. И периодически устраняют излишне ретивых членов. Вот и этого Ващенко… пришлось. А жалко, толковый был парень. Но иначе бы его политический конкурент устроил ненужный шум, а это еще сильнее повредило бы делу. Пришлось выбирать. Я же говорил вам про своего метиса. А ведь когда-нибудь придется и его.
Волошин был тоньше в кости и выше. Из разодранных рукавов торчали худые руки. Как и у девушек, в синяках и кровоподтеках. Похоже, он был старше всех. Руководитель? Не такой тяжелый, как Макарчук, он, вероятно, очень долго умирал от удушья.
Лист назидательно покачал головой и дружески заглянул мне в глаза.
– Вот так-то, Флавио Росси. В нашей Таврии надо быть в высшей степени осторожным. Совсем недавно капитан Липниц…
Внезапно утратив слух, я так и не узнал, что случилось с капитаном Липницем. Надеюсь, ничего хорошего. Стараясь не осесть на землю, я приказал себе смотреть на Ващенко. Запомнить его, навсегда, in saecula saeculorum.
Мерзавец висел как живой, он был относительно свежим. Улыбка на гнусном лице выдавала некое подобие блаженства. Человек пострадал за идею и был счастлив, принося себя в жертву великому делу – делу, ненавистнее которого для меня с этих пор не будет.
– Росси! – Оберштурмфюрер подергал меня за рукав. – Я думаю, вы извлечете урок. И помните, случись с вами что, никакой Беккариа вам не поможет. Ваше Просвещение давно протухло. Мы вернулись в эпоху героев. А теперь позвольте откланяться. Дорогу домой вы отыщете сами.
Лист повернулся на каблуках и неспешно пошел по направлению к Студенческой. Часовой отсалютовал, умело взяв винтовку на караул. После чего, непонятно зачем, улыбнулся. Мне. Я отвернулся от виселицы и медленно двинулся следом за Листом, уверенно шагавшим метрах в двадцати от меня. Но только до первого перекрестка. Там я повернул направо и долго еще бесцельно бродил по городу. Среди солдат, полицейских, добровольцев, проституток, першеронов. Смеркалось, близился комендантский час, людей вокруг становилось всё меньше.
Духота сделалась абсолютно невыносимой. Я рывком разорвал воротник рубашки. Ручьями лился пот. Казалось – немного, и я задохнусь. Глухо урчали орудия под Севастополем.
Когда с небес раздался гром, я не сразу понял, что случилось, настолько успел позабыть этот звук. Хлынувший ливень в одну минуту превратил мой костюм в тяжеленную мокрую тряпку, а струи воды не позволили посторонним увидеть слез у меня на лице.
Servitude et grandeur militaires
Ефрейтор Курт Цольнер
Ночь на 19 июня 1942 года, тринадцатые сутки второго штурма крепости Севастополь
«Сегодняшний день войдет в историю», – пообещал побывавший у нас командир батальона.
После понесенных потерь оставалось утешаться лишь этим. Но я бы не сказал, что майор был чрезмерно расстроен. Задача дня была выполнена блестяще. А войны без потерь не бывает. После того как мы прошли через заваленное трупами старое военное кладбище, Берг позабыл, что недавно был зол на Вегнера. Старшему лейтенанту светил Железный крест первой степени. Но ему, как и мне, давно было всё безразлично.
На кладбище умер Штос, неподалеку от русской церкви. Довольно необычной, в форме усеченной пирамиды. С крестом или без? Не помню. Пирамида, египетский символ бессмертия, в окружении истерзанных кипарисов и изувеченных туй. Наш Африканский корпус вместе с итальянцами тоже рвался сейчас к пирамидам. Потомков Арминия и Вара обуяла жажда вечной жизни.
Смерть санитара была быстрой и легкой. Он кого-то перевязывал, кого я не видел. Лежа на животе и почти не поднимая головы. Среди фонтанчиков пыли и щебня я различал подошвы его сапог, подрагивавшие в такт колебаниям почвы. Потом там вырос рыжевато-черный столб, один из множества взлетавших вокруг. Русским снарядом накрыло обоих. Они ничего не почувствовали. «Можно позавидовать», – прокомментировал проползавший мимо Главачек. Но никто никому не завидовал. От известняковых стен пирамидальной церкви рикошетом летели осколки. Русские и немцы перемещались кто ползком, кто перебежками между могильных плит. Памятников вечности.