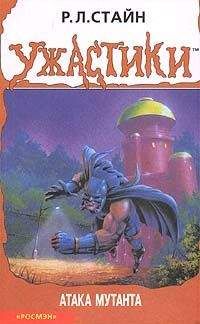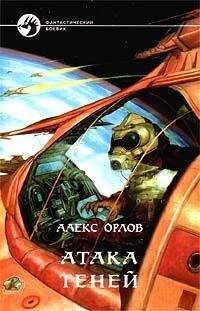— Полундра, — сказал Черепец, — стоп. — И, пройдя через лужу, схватился за чемодан. — И чего вы па меня, девушка, так крепко обижаетесь?
Подбитый глаз у него заболел и задергался, раньше вот не болел, а сейчас заболел. Маруся не выдернула ручку чемодана, она смотрела мимо него, куда-то на залив.
— А чего мне на вас обижаться? Я и кто вы такой, не знаю, старшина и старшина… У ВВС много старшин.
— Так, — сказал Черепец мертвым голосом, — такие, значит, пироги…
Они стояли под дождем. Черепец молчал, молчала и она тоже.
— Бабушку поцелуй, балбес, — кричал рядом с ними какой-то майор из морской пехоты.
— Я им отрез ваш вручить хотел и ватин с прикладом, они не взяли, — сказал Артюхов, высунувшись в окошко «пикапа», он был обижен за Черепца до последней степени.
— Ладно, я возьму, — вдруг сказала Маруся.
Артюхов поспешно полез в кузов, достал набитую наволочку, передал Черепцу, а тот Марусе.
— Хорошая длина выйдет, — вдруг лихорадочно заговорил Черепец слова, которые много раз говорил про себя и в разных придуманных обстоятельствах, только вот сегодняшнего обстоятельства он придумать не смог. — За модой не гонись, тебе тепло требуется, хотя немного приталить будет неплохо. Когда сошьешь, сфотографируйся, фотокарточку мне пришли. — Он помолчал. — Красива северная природа, — добавил он, — хотя южная тоже ничего себе. Может, прогуляемся… Ваш буксир еще не зачалил…
И они пошли вдоль пирса, вдоль огромной сырой кучи угля под дождем, он нес одной рукой чемодан и валенки, а другой вел ее под ручку. На рабочих ботинках его не было шнурков.
С буксира на транспорт заводили конец. Плечи Маруси и Черепца потемнели от дождя, ветер рвал полу ее тяжелого пальто.
— Давай посидим, — сказал Черепец, он смахнул рукой воду с цементной скамьи. Они сели, в кармане у Черепца была баранка, он ее размочил в луже, и они молча стали бросать кусочки чайкам. То он, то она. И Черепец подумал, что, наверное, сегодня лучший день в его жизни. И что ои его всегда будет вспоминать.
— У меня легкая форма, — вдруг сказала Маруся. — Глонти сказал, мие детей иметь можно будет… Я девушка здоровая, поправлюсь…
Г у-у-у-у-у-у… — загудел рефрижератор.
Шофер домел веничком кузов, закрыл борт. Белобров сунул ему тридцатку.
— Ну вот и все, — сказала Шура и оглядела дома, Базу, размытые дождем сопки, серые корабли под скалой. — Все, — сказала она, — как сон, Сашенька, как сон!
Не прощаясь, взяла ребенка у Екатерины Васильевны н, криво ступая, пошла по трапу. За ней поднимался Дмитриенко с открытым зонтом. На палубе ветер рвал брезенты с бесконечных штабелей бочек. Помощник ругался в мятый жестяной рупор. Транспорт опять загудел.
— Ну, бывайте здоровы. — Маруся пожала руки Черепцу и Артюхову. И потом еще раз Черепцу. — Ждите нас с песнями.
И, забрав в обе руки вещи, не оборачиваясь, полезла по трапу.
Майор из морской пехоты заиграл на аккордеоне танец маленьких лебедей. Матросы с грохотом потащили наверх трап. Буксир хрипло гуднул и стал вытаскивать транспорт. Шура на палубе мотала головой, потом ткнулась лицом в одеяло, в которое был завернут ребенок, и заплакала. Маслянистая полоса воды между транспортом и пирсом все увеличивалась, и винты буксира погнали по этой воде пенистые гребешки. Порыв ветра вырвал у Екатерины Васильевны зонт, он закачался на воде, а Екатерина Васильевна тоже заплакала, пе то из-за зонта, не то от тоски. Все кричали и с берега, это был крик, в котором нельзя разобрать слов. Майор играл вальс. Подъехал «виллис», из него выскочила Настя Плотникова и замахала рукой, а Шура опять закивала головой.
Маруся стояла на самой корме у штабеля бочек рядом с вылинявшим флагом, так и не выпустив чемодана и узлов. Винт транспорта вспучил и вытолкнул из воды масляные пузыри, тогда Маруся села на чемодан, облокотилась локтем на леер и так смотрела на Черепца и на пирс долго и неподвижно. Тугой сырой ветер все дул и дул с залива, транспорт отходил. За транспортом двинулся «бобик» — большой морской охотник, корабль охранения, матросы с него показывали на зонт в воде и смеялись.
Провожающие расходились. Настя уехала на «виллисе». Черепец, Белобров и Дмитриенко залезли в кузов «пикапа» и накрыли плечи брезентом. К ним попросился майор с аккордеоном.
— Уехал мой балбес, — сказал майор, — и снова я одна. — Он хихикнул и заиграл «Давай пожмем друг другу руки».
— Вчера мухи появились, совсем весна… — сказал Черепец.
«Пикап» полз в гору, и чем выше он полз, тем шире становился залив. Манор играл, лицо у него было печальное.
— Черепец, дорогой, — сказал Белобров, — а я тебе воротник купил, — он кивнул в сторону залива и транспорта, — купил, понимаешь, не отдал. Из хорька воротник. Теплый.
— Я этого хорька знал, — подхватил Дмитриенко, — он Долдону двоюродный брат.
Но никто не засмеялся. У гарнизона они подобрали Гаврилова и Игорешку с шахматами под мышкой. Затемнение в парикмахерской было поднято, и за креслом Шуры работал молодой прыщавый матрос.
Транспорт все уходил и, совсем маленький, то исчезал в тумане, то возникал из него. Выходя из узости, он, как это делали все транспорты, загудел и долго гудел, пока вовсе не пропал из виду.
— Мы их разобьем так страшно, — вдруг сказал Белобров, — что веками поколения будут помнить этот разгром. Честное слово, ребята.
На развилке майор вышел, а они поехали дальше. Навстречу, подскакивая на ухабах, проехали два грузовика, в которых, держась друг за друга, пряча лица от холодного ветра, стояли летчики. Летчики пели. Вместе с ними у самой кабины стояла и пела хорошенькая девушка.
— Здравствуйте, сестрица! — заорал Дмитриенко и встал в «пикапе».
— Здравствуйте, товарищ гвардии капитан, — ответила девушка.
Рядом с ней в красивой позе стоял Сафарычев.
— Все, — сказал Дмитриенко и погрозил Сафарычеву кулаком, — «Окончен бал, погасли свечи». Надо было мне в ваш Мурманск ездить!..
Ночью, когда объявили тревогу и в «тридцатке» поднимали экипажи, а автобусы подходили к гарнизонным домам и в них, застегиваясь на ходу, садились те, кто был не на казарменном, я спал.
Экипажи шли к самолетам неразговорчивые, хмурые, пирожки и холодное какао раздавали с «пикапа» на ходу, их раздавал краснофлотец, пока не прибежала Серафима. Механики грели моторы, грохотали винты, поднятый ими ветер выдувал воду из луж.
— Вы моя сказка, — кричал за самолетом невидимый Белоброву торпедист, — вы для меня сон, дуну и вас нет… А она па семь годов его старше и вылитая треска.
— Бабушка, — прокричал второй голос.
— Ну, что у вас там? — кричал Белобров. сунул в рот остатки пирожка и полез в самолет.
— Торпеда готова по-боевому, — сразу ответил из-за самолета первый торпедист, и это был последний в жизни Белоброва голос, который он услышал не по СПУ, а на земле.
Под самолетом пробежал Долдон, Белобров закрыл люк и переключился на СПУ.
— Штурман в порядке? Стрелок в порядке?
— В порядке, в порядке, — ответил Звягинцев, нынче он шел штурманом с Белобровом.
— В порядке, — ответил Черепец.
— Тогда поезд отправляется, третий звонок.
Белобров взлетел первым, оставив за собой полосу пыли, и пошел кругом над аэродромом, ожидая, когда из этой пыли возникнут и подстроятся за ними Романов и Шорин. Остальные пока оставались на аэродроме.
Небо начинало желтеть, земля была черной, а залив уже голубым. Они вышли из-за столовой номер три строем клина, прошли над домами гарнизона, пирсами, над заливом.
Мощно и грозно гудели моторы.
Над Мотовским заливом в плексиглас ударило солнце, под самолетом прошли голые, поросшие красноватыми лишайниками скалы и сразу открылось море. Над водой стояла легкая дымка, и они еще с час летели над этой дымкой,
«Дорогая моя Варя, — начал Белобров. — Дорогая моя Варя!»
— Интересно, — сказал Черепец, — как муха на потолок садится — с попорота или с петли?
Они снизились, дымка внизу вроде бы расступилась, открывая студеную воду, и тогда они увидели первую бочку, то есть они не поняли сразу, что это бочка, она была полузатоплена, и Белобров решил, что это мина; сорванные мины ходили косяками, и их следовало наносить на карту, но это была не мина, а именно бочка, и вторая, и третья. Чем больше они снижались, тем шире расступалась дымка и тем больше открывалось этих полузатопленных знакомых бочек с рефрижератора помер три. Некоторые были разбиты, и на них сидели чайки. Больше ничего не было, только бочки, да угол какого-то здорового ящика, да доски, на которых тоже сидели чайки. Бочки, бочки, бочки!
— Бочки! — быстро по СПУ сказал Черепец и облизнулся. — Бочки! Ворвань не затонула. Вот, командир, надо… — И вытер сделавшиеся мокрыми лоб и подбородок, он не знал, что надо, и никто не знал.