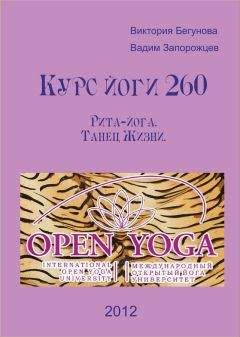— Ну, чего нельзя, — настаивала на своём Феня. — Кабы дело серьёзное, а то так, пустяки одни.
— Дело такое, что серьёзнее быть не может, — не сдавался Николай Семёнович. — Ваш сын талантлив, ему надо учиться.
— Ну, после войны пускай учится, а сейчас, извиняйте, некогда.
— А когда война кончится?
— Почём же я знаю, — опешила Феня.
— Вот! И я не знаю. И никто не знает. Годы уйдут. А талант надо развивать с детства. Ване и так уже пятнадцатый год. Когда же ему учиться, если не сейчас? Вы, мать, должны радоваться, что у него такой дар, а вы сами хотите отнять его у сына. Нехорошо. Да вы хоть видели, как он рисует? Вы посмотрите, посмотрите!
Николай Семёнович стал доставать одну за другой работы Вани и ставить их на подоконник. Феня долго рассматривала рисунки и молчала. Зная, что мать не одобряет его «художества», Ваня ничего не носил домой, все рисунки оставлял в студии, в большом старом шкафу, где хранились краски, кисти, бумага и мольберты.
— Что же вы молчите? — спросил Феню Николай Семёнович. — Или не нравится?
Феня не понимала, хороши рисунки или нет, но ей льстили слова учителя, который при всех сейчас сказал, что у её сына талант. На её подобревшем лице засветилась улыбка, и она сказала:
— Ну, ладно, пускай рисует. Только пускай и дров наколет.
Зойка опять села на свой стул и раскрыла геометрию. Студийцы уже начали скалывать рисунки, вытирать кисточки. Входная дверь громко стукнула, и сразу же раздался басовитый голос уборщицы, тёти Нади:
— Здрасьте вам! Они ещё тут!
В этих словах тёти Нади, как всегда, совместились и приветствие, и выражение крайнего неудовольствия. Она торопилась сделать уборку, а студийцы мешали, и тётя Надя не скрывала раздражения. И вообще, один только вид людей во время уборки в помещении вызывал в ней бурное возмущение. Ей всегда было жалко своего труда. Вот вытрет полы, а они тут же и натопчут. Студийцы уже привыкли к её крику, но всё же спешили поскорее выскочить на улицу. А вслед им нёсся недовольный голос уборщицы:
— Опять мазали! Вот делать-то нечего людям! Руки у них чешутся! Ну и шли бы работать! Рабочие-то руки во как нужны! Дылды здоровые. Повымахали под потолок, а всё маленькими прикидываются. Рисуют они. Ну, чисто в детском саду! Придут, намажут, намусорят, а ты за ними прибирай!
Насчёт мусора она, конечно, зря, студийцы работали очень аккуратно. Николай Семёнович мог бы возразить, но спорить по пустякам было не в его характере. Он деликатно молчал, стоически вынося крик тёти Нади, как неизбежное испытание. Она знала, что другого помещения для изостудии в городе нет, что здесь её разместили по особому распоряжению. Но тётя Надя не уснула бы спокойно, если бы не излила своё недовольство на «пачкунов».
Тётя Надя открыла подсобку и, доставая ведро, швабру, тряпку, продолжала, ни к кому конкретно не обращаясь, изливать своё недовольство тем, что студийцы долго задерживаются, что идёт война и трудно стало с мукой, хлебом, а ей нужно кормить пятерых ребятишек, что веники нынче стали жиденькие и вымести такую махину, как этот «колидор» (она принципиально не признавала иностранного слова «фойе»), просто невозможно. Тётя Надя, наконец, приготовила всё для уборки и пошла туда, где сидела Зойка.
— Всё учишь?
Этим тётя Надя, кажется, тоже была недовольна, и Зойка, стараясь не раздражать её, кивнув головой, осторожно передвинулась вместе со стулом.
— Ну, и я же своему Петьке говорю: учись, а то что отцу на фронт напишем? Да, видать, ему, балбесу, бог ума не дал. По русскому отстаёт.
Двенадцатилетний Петька был старшим из пяти её детей, и тётя Надя связывала с ним единственную надежду: через два года в ФЗУ пойдёт, специальность получит, работать начнёт, всё легче станет.
— Я тоже в ФЗУ училась, — неожиданно доверительно поделилась с Зойкой тётя Надя. — На фрезеровщицу. Это когда ещё в Ростове жили. На большом заводе там работала. Сюда перед самой войной переехали, пришлось завод бросить. По моей специальности мне здесь работы нет. Да и ребятишек вон сколько! Мал мала меньше. Сейчас на заводе в три смены работают. А с кем их оставишь? Тут на два часа ухожу, и то душа изболится. Уж приказываю Петьке, приказываю… Да что с парня возьмёшь? Мне бог девок не дал, одни парни!
Тётя Надя шаркала шваброй и всё говорила, говорила…Вдруг она обнаружила, что Николай Семёнович ещё не ушёл. Он пристроил подрамник под одной из лампочек и теперь готовил кисти.
— А вы чего это…мешок здесь развесили? — стараясь быть вежливой, спросила его тётя Надя, но в голосе её уже слышалась гроза.
— Я ещё работать буду, — тихо, но твердо сказал художник. — У меня срочный заказ: написать портреты передовиков завода.
— У их заказ, а я убрать не могу! — уже открыто возмутилась тётя Надя. — Вы, по крайности, отодвиньте мешок в сторону — вытру тут.
Тётя Надя упорно называла холст мешком, желая уязвить художника, который ей так мешал. Она раздражённо гремела ведром, шаркала шваброй. И вдруг в фойе вошла девушка. Тоненькая, бледная, с большими синими кругами около глаз, в стареньком сером пальтишке чуть не до пят. Ноги в резиновых ботах, заклеенных тусклыми латками. Видно было, что девушка продрогла на мартовском ветру. Она вся сжалась под пальто и была похожа на больную, насильно поднятую с постели. Девушка шагнула залатанными ботами на только что вытертый пол.
— Куда тебя несёт? — закричала тётя Надя. — Не началося ещё, не началося! Слыхала? Вон в ту дверь войдёшь! Пташка ранняя! Готовы уже с утра по театрам шастать!
— Я не в театр, — робко сказала девушка. — Мне велели к художнику.
— К художнику! — продолжала высказывать недовольство тётя Надя. — Вот как раз и натопчешь!
— А давайте я ноги вытру, — смиренно предложила девушка, и это неожиданно успокаивающе подействовало на тётю Надю.
— Вытирай, — смягчилась она, бросив тряпку под ноги девушке, и стала в упор разглядывать её.
Осмотрев девушку, тётя Надя вздохнула:
— Господи, кого присылают…
— А что? — несколько растерянно спросила девушка.
— Да какой из тебя передовик? Вот-вот переломишься. А ручки-то, ручки-то! Ну, стручки сухие, а не руки. Что ж ими сделать-то можно?
— Что надо, то и делаю, — обиделась девушка. — По две с половиной нормы даю. Иногда три смены без перерыва стою. И выдерживаю.
— А что так-то? — заинтересовалась тётя Надя.
— Не придут сменщицы, заболеют или ещё что — вот и стою, у нас производство непрерывное, не бросишь.
— Сознательная, — сказала тётя Надя. — Это я одобряю.
— Вы проходите сюда, не стесняйтесь, — пригласил девушку Николай Семёнович. — Как вас зовут?
— Оля. Оля Потапова.
— Садитесь вот сюда, Оля.
— Только, пожалуйста, недолго, — попросила Оля, — я ещё смену не закончила.
— Ну, посидите, сколько сможете, заодно и отдохнёте, — успокоил её Николай Семёнович и взялся за карандаш.
— Нет, вы, пожалуйста, скорее рисуйте, мне некогда отдыхать, — настаивала Оля.
Зойка с нескрываемым интересом смотрела на девушку, примостившуюся на краешке старого стула. Сколько же ей лет? Семнадцать? Восемнадцать? Не больше. И уже пишут её портрет. Руки, правда, ужасно худые и тонкие, пальцы с чёрными каёмками под ногтями. Ей на миг стало стыдно за свою, как казалось, праздную жизнь. Война идёт, а она ровным счётом ничего не делает. Все ей только и говорят: надо школу кончить. А зачем? Пока будет учиться, война кончится. Так на чужом горбу в рай и въедет, как тётя Надя говорит.
Зойка подняла глаза на героиню труда и вдруг увидела, как девушка стала медленно сползать со стула. Глаза у неё подкатились, веки не до конца закрывали обнажённые белки. Зойка оцепенела от ужаса и не успела ничего сообразить, как Оля рухнула на пол.
Быстрее всех к девушке подбежала тётя Надя, собравшаяся уже уходить.
— Чего сидишь? — крикнула она Зойке. — Не видишь, обморок! Тащи скорее воды!
Зойка вскочила и мигом принесла кружку с водой. Тётя Надя с причитаниями и охами стала брызгать воду в лицо девушке. Оля, наконец, открыла глаза. Тётя Надя и Зойка помогли ей снова сесть на стул. Девушка дрожащими руками поправила на себе одежду, откинула волосы с мокрого лба и попросила Николая Семёновича:
— Пожалуйста, рисуйте скорее, мне ещё на завод надо.
— Да уж на сегодня достаточно, — ответил Николай Семёнович. — Вам не на завод надо. Вам отдохнуть надо. Вы какую смену стоите?
— Третью начала.
— Это что же, две уже отстояла и третью начала? — уточнила тётя Надя.
Оля кивнула головой.
— А ела когда? — грозно спросила тётя Надя.
— Н-не помню, — ответила Оля, кажется, вчера вечером.
— Сутки прошли! Да что же от тебя останется при такой кормёжке? — всплеснула руками тётя Надя. — Ты ж и вовсе двигаться не сможешь. Не-е-е, девка, так дело не пойдёт!