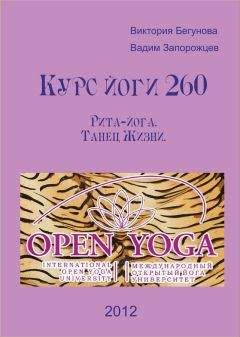Старушка смотрела в землю, думала. Потом развязала дрожащими руками узелок, извлекла золотой перстенёк с рубином, протянула Степаниде:
— Вот всё, что осталось. Больше заплатить нечем.
— Да ты что, мать?! — почти грозно крикнула Степанида. — Спрячь своё колечко! Кто же за беду плату берёт?
Старушка подняла на Степаниду свои печальные глаза, из которых вот-вот брызнут слёзы, и стала просить:
— Вы не сердитесь, не сердитесь, пожалуйста. Уж извините меня, добрая, добрая вы, милая.
Она приникла к Степанидиной руке и заплакала. У Розы тоже из больших чёрных глаз побежали слёзы. Степанида закашлялась, чтобы самой не расплакаться, и шумно приказала:
— Ну, нечего здесь сырость разводить! Идёмте, идёмте! У меня там всё для чая припасено. Придем — сейчас самовар поставлю.
По дороге выслушала от старушки одну из горестных историй, каких сейчас было так много.
Мира Давыдовна эвакуировалась из Киева вместе с дочерью и внучками. Сначала так и ехали большой семьёй: она, дочь и три внучки. Но на какой-то станции состав разбомбило, уцелевшие беженцы еле добрались до ближайшего села, куда следом за ними вошли немцы.
Хозяева двора, к которым попросилась семья, были хмурые, неразговорчивые. Они разрешили всем пятерым переспать в сарае. Но утром, когда выяснилось, что в село вошли немцы, они переполошились и стали гнать их со двора, выкрикивая обидные слова в адрес евреев, из-за которых теперь все могут погибнуть.
Деваться было некуда, и они уговорили хозяев подержать их в сарае до вечера, когда можно будет тайком поискать другое место. В благодарность дочь сняла с руки золотые часы. Хозяин послушал, не стоят ли, сунул их в карман и вроде успокоился. Под вечер бабушка повела Розу в туалет, стоявший в глубине двора. В это время к воротам подъехал фургон. Из него вышли два немца и хозяин двора. Он вывел из сарая мать Розы и двух девочек и сказал:
— Вот, ваши благородия, еврейки они, забирайте их!
— Иуде, иуде? — зловеще спрашивали пьяные немцы и подгоняли женщину с детьми к машине.
— Они и есть, — суетливо и подобострастно говорил хозяин. — А то ж не видно? А где же ещё двое? Та постойте ж, где же ещё две?
Но немцы его не понимали и были вполне довольны, что уже заполучили трёх евреек. Они отъехали, а хозяин всё бегал то в дом, то в сарай и кричал: «А где же ещё две?» Роза и бабушка, притаившись в нужнике, с ужасом смотрели через щели на то, что происходило во дворе. Странно, но хозяин не догадался заглянуть в туалет. Здесь бабушка и Роза отсиделись, пока хозяин не ушёл со двора, а потом тихо перебрались в стог сена, стоявший за сараем. Ночь провели, не зная своей дальнейшей участи. А на рассвете ту часть села, где они были, отбили наши части. Бабушка и Роза вновь влились в колонну беженцев, так и не сумев ничего узнать о матери с девочками. Они кочевали долго, пока не добрались до Северного Кавказа.
Из санитарного вагона выносили тяжелораненых. Зойка вдруг увидела Лёню — он нёс носилки в паре с Пашей. Наверное, от матери узнал о поезде, а может, от Генки. Накануне, в пятницу и субботу, Зойка с ним не виделась: Лёня сильно подвернул ногу на уроке физкультуры и не мог выйти из дома. Вести о нём доставлял в школу Генка. И вот всё-таки пришёл. Лёня ступал не очень уверенно, ещё прихрамывал, и Зойке захотелось сказать ему что-нибудь хорошее, утешительное. Но бросить носилки она не могла. К тому же, её смущала Рита. Где-то в глубине Зойкиной души жило неясное ощущение какой-то вины перед подругой, но она старалась не думать об этом. Сама же Рита больше не говорила с ней о Лёне. Да и что теперь было обсуждать? Компанией они уже не собирались, а в школе все виделись каждый день. Сходились на большой переменке около какого-нибудь окна и разговаривали. После уроков расходились по домам: у каждого свои заботы. Зойке вечером в театр, на работу. Знали друзья, что Лёня провожает её туда и обратно, или нет, об этом Зойка не задумывалась. Иногда они приходили на спектакли, и Зойка немного даже гордилась тем, что может пропустить их без билетов. Тогда из театра шли все вместе, провожая по прежнему принципу: Таню, Зойку и затем Риту. В такие вечера Лёня и Зойка от друзей не отделялись. Никто из них не старался объяснить эти отношения даже самому себе, они просто стали привычными, необходимыми. Раздумывая об этом, Зойка и не заметила, как они с Ритой оказались около Лёни и Паши. Подруга подтолкнула её:
— Смотри! Подойдем?
— Давай, — согласилась Зойка.
— Привет, мальчики! — несколько небрежно сказала Рита. — Кого вы так осторожно несёте?
Ребята приостановились, бережно придерживая носилки. Девушки посмотрели на раненого. Он был совсем молоденький, просто мальчик, одетый в гимнастёрку. Из расстёгнутого ворота виднелись насквозь пропитанные кровью бинты, ею была пропитана и гимнастёрка. Раненый лежал с закрытыми глазами, скорее всего, без сознания. Чёрные курчавые волосы сбились, а несколько прядей прилипло к мокрому лбу.
— Несите скорее, — прошептала Зойка, — а то…
Она не договорила, потому что боялась сказать, что он умрёт ещё по дороге в госпиталь.
— Как на Володю похож, — задумчиво сказала Рита, когда ребята отошли. — Не лицом, нет. Может, потому, что такой же молодой?
— Ты что-нибудь знаешь о Володе? — спросила Зойка.
— Конечно, он же мне письмо прислал, — торопливо ответила Рита и вдруг предложила: — Слушай, а давай в госпиталь пойдём. Как шефы. Будем концерты давать, письма за раненых писать родным. А этого мальчика я найду и спою ему отдельно. Обязательно!
Зойке предложение понравилось. На следующий день поговорили с Таней и решили втроём взять шефство над одной палатой. После уроков явились в госпиталь.
— Нам самых тяжёлых, — потребовала Таня.
Строгая медсестра, окинув девчонок быстрым взглядом, привела их в палату, где стояли три койки, и вышла, не сказав ни слова.
— Здравствуйте, — приветствовали девушки раненых с порога.
В ответ они услышали лишь один голос, слабый и хриплый, будто застуженный:
— Здравствуйте. Вам кого?
— Мы к вам, — ответила за всех Таня. — Мы шефы.
— А-а-а, так вы подойдите поближе, а то я нэ бачу, — сказал раненый.
Они подошли к нему. Это был пожилой мужчина с большими висячими усами. Говор выдавал в нём человека с Украины. Он с усилием повернул к ним голову, добродушно сказал:
— Зовсим молодэньки дивчатки. А меня Тарасом Григорьевичем кличут. Як Шевченка.
В это время в другом углу раздался внезапный крик:
— В окоп! В окоп! Эх, братишка!
Девушки вздрогнули, обернулись.
— Зовсим плохой, — с сожалением сказал Тарас Григорьевич. — А такий молодэнький. У его ноги перебитые и контузия. Моряк он, из Севастополя. Бредит часто. Сейчас знову будет мамку вспоминать.
Моряк действительно стал быстро-быстро что-то говорить, всё время обращаясь к матери. В бреду он вспоминал и алычовое варенье. На третьей койке тоже завозился раненый, будто силился подняться, но так и не смог. Рита подошла к кровати и вдруг горячо прошептала:
— Это он!
Зойка и Таня придвинулись ближе и увидели того солдата, которого вчера несли Лёня и Паша. Рита поняла, что сегодня ей петь не придётся.
Раненый опять пошевелил руками, пытался повернуть голову, и всё это — не приходя в сознание. Потом у него начался бред. Он всё время просил что-то вроде «дуззы хияр».
— Что он говорит? Чего он хочет? — добивалась от подруг Рита, но никто не мог понять эти странные слова.
— Азербайджанец он, — пояснил Тарас Григорьевич. — Мы с ним в вагоне рядом лежали. Плохой хлопец, зовсим плохой.
— Чего он просит? — настаивала Рита.
— Огурца солёного, наверное. Он, когда в сознание приходил, так всё огурца солёного просил.
— Значит, так, — подытожила деловая Таня. — Алычовое варенье, солёные огурцы. А вам что, Тарас Григорьевич?
— Мне? Мне, дивчатка, ничого нэ трэба.
— Может, бумаги для писем?
— Куда писать? Наша хата под немцем.
На другой день в госпиталь пришли сразу после уроков. Зойка прихватила огурцов (бабушка большая мастерица их солить). Таня разыскала у соседей алычовое варенье, а для Тараса Григорьевича Елена Григорьевна напекла пирожков с картошкой.
— О цэ угодили дивчатка! — нахваливал пирожки Тарас Григорьевич.
Моряк был в сознании. Таня подложила повыше подушку, чтобы он мог их видеть, а главное — попробовать варенье. Он долго смотрел на банку с вареньем, и Таня всё твердила: «Алычовое, ваше любимое». Моряк вдруг заплакал. Девушки растерялись.
— Что, не такое? — огорчённо спросила Таня.
— Я думал…только моя мама…
Он не мог договорить, но все поняли, о чём он думал: алычовое варенье в его памяти было связано с мамой, с детством, его захлёстывала тоска по дому.
— Петя, а ты попробуй, попробуй, — уговаривал его Тарас Григорьевич. — Оно, може, и полегчает. Всё равно как дома побываешь. А вот пирожка.