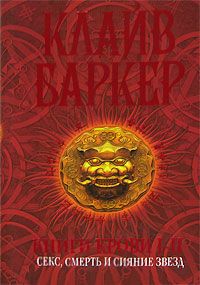А три года назад, когда Мирек вернулся с работы, отец попросил его:
— Помоги-ка мне переставить шкаф. Подвинем его вот сюда, в тот угол. Одному мне не справиться.
Мирек, горячая голова, уперся плечом в шкаф, да как двинет его по шершавому полу, сразу шагов на десять, из угла в угол. Даже стену поцарапал и отцу колено ушиб. Но это не беда. Отец даже не выругался, только покрепче стиснул трубку зубами да потер ушибленное место.
— Видела, мать? Сильнее отца стал, чертов мальчишка!
…Неожиданно проснувшись, Мирек повернулся на спину и, глядя в потолок, предался воспоминаниям. В комнате темно и тихо, товарищи спят. О чем только не вспомнишь в ночь под рождество! Хорошо, что ребята заснули. Иначе не скрыть бы Миреку своих слез. Отец с матерью, наверное, сидят теперь за столом, отец молча, сердито грызет мундштук трубки, а мама, не таясь, утирает слезы.
А я… я сам? Эх, проклятая жизнь!
Постарели уже мои родители, от них помощи ждать нечего, им надо помогать, протянуть бы им руку, подбодрить, развеселить. Но как, черт побери, как?
В прошлом году еще куда ни шло: была елочка, были подарки, было радостно за столом. А для бодрости они потихоньку включили радио. «Говорит Москва», — произнес знакомый голос, и все трое замерли в полутемной комнате. Только шкала приемника бросала красный отсвет на руки отца.
А нынче? У родителей отняли сына, их любовь и опору. А захотят — отнимут и жизнь. Вот и говори после этого «счастливое и веселое рождество», «праздник мира, покоя и любви». Не-ет, нынешнее рождество — это праздник войны и ненависти, озлобления и жажды мести. Ради мира и покоя, ради любви и будущих праздников надо вытерпеть этот год и украдкой смахнуть слезу. Эх, видели бы сейчас меня ребята!..
Мирек сел на койке и уставился в окно. Он долго сидел не шевелясь, а потом вдруг оттолкнулся руками и вскочил на ноги.
— Рота, уфштее[17], лос! — закричал он и затряс койки товарищей.
В столовой, расположенной в первом корпусе, у ворот, столы были накрыты чистыми скатертями, на стенах меж окон висели хвойные гирлянды с парафиновыми свечками, повара в чистых белых колпаках стояли у окна. Рота сидела за столами и, скучая, слушала пламенную речь переводчика Куммера, судетского немца, у которого в Праге на Водичковой улице была оптовая виноторговля. Куммер вполне прилично говорил по-чешски.
— Наловчился, — прошептал Кованда Пепику. — Старается вовсю, сразу видать. Два месяца назад он так не умел. Тогда он говорил: «Кто будет симулирен, што хочут на двор под забор, тот не получайт воскресенье выход. Воровство караицца смертем».
Унтер-офицер Куммер закончил свою речь заверением, что следующее рождество будет уже не таким, как это. Кованда восторженно зааплодировал, и вся рота присоединилась к нему. Куммер понял двусмысленность этих аплодисментов, запнулся, провозгласил еще несколько лозунгов, которых в этом шуме никто не услышал, и, наконец, воскликнул «Хайль Гитлер!». Рукоплескания разом смолкли.
В наступившей тишине было слышно, как шепчется переводчик с капитаном. Капитан злобно закусил губу и приказал выдавать еду.
Люди, сидевшие за столиками, поочередно подходили к кухонному окошечку и получали от поваров Франтины и Йозки и сердитого ефрейтора Гюбнера рождественский ужин: поварешку картофельного салата, поварешку супа с лапшой, свиной шницель и бутылку красного вина. Очередь понемногу подвигалась под надзором ефрейтора Гиля.
Олин стоял за Ковандой и упрекал его.
— Вечно ты выдумаешь какую-нибудь глупость, — испортишь весь праздник. Этак мы с ними никогда не поладим. Ты думаешь, Куммер так глуп, что не понял твоих рукоплесканий?
Кованда удобно оперся о край окошечка и поглядел на Олина.
— Удивительно, — сказал он. — Ведь ты из интеллигентной семьи, а сидел за столом, как куль с овсом, даже не расчувствовался от таких красивых слов! А меня так проняло, что я не мог удержаться от хлопков. Видно, ты совсем не разобрался в том, что говорил Куммер. Он ведь имел в виду, что к тому рождеству уже не будет войны, Германия всех победит, настанет мир во всем мире. Мать честная, чем же это плохо? Настанет мир на тысячу лет, как сказал Адольфик… и под опекой братской немчуры чешский народ заживет счастливой жизнью, какой не знавал прежде. Я прямо помешался от радости, как же тут не хлопать?
Олин злобно грыз ногти, а ребята сзади посмеивались.
— Через год война кончится, — холодно отрезал Олин. — Могу голову прозакладывать. Германия ее выиграет, мы этого дождемся.
— Аминь! — отозвался Кованда. — Не будь у меня заняты руки, я бы и тебе сейчас похлопал. Вот ведь жалость. Надеюсь, ты еще это повторишь, когда у меня руки будут свободны.
— Давай, я подержу твой котелок, — предложил кто-то сзади. — Можешь начать хоть сейчас.
Олин покраснел, но не обернулся.
Когда подошла очередь Мирека, он поставил на доску свой котелок, рядом положил крышку и многозначительно сказал Франте, орудовавшему поварешкой:
— Вот и я!
Франтина положил ему картофельного салата и беспомощно пожал плечами: шницели и вино выдавал Гюбнер, Йозка наливал в котелки лапшу.
Взбешенный Мирек, прищурившись, поглядел на шницель, который Гюбнер положил ему на картошку: «Ist zu klein»[18], — громко объявил он и не тронулся с места.
Гюбнер озлился.
— Проваливай, дерьмак! — сказал он, а подошедший к окошку Гиль дернул Мирека за плечо. Мирек отошел, сердито крикнув Франтине: «Сигару ты мне вернешь, подлюга!» Тот кисло усмехнулся и снова пожал плечами.
Еще не закончилась раздача, а получившие ужин уже проглотили его и откупорили бутылки с вином.
— Дома я такое вино не стал бы пить, — презрительно сказал Фера. — Эх, ребята, вот у нас вино так вино! Золото! А такую бурду у нас выливают на помойку.
Карел задумчиво потягивал вино из своего стакана и покачивал головой.
— А у нас, — сказал он, — вина не пьют вовсе. У нас пьют водку. Она лучше прочищает горло и скорей разогревает кровь. Простую хлебную водку или чистый спирт. Когда не было денег, пили денатурат. От него и сдохнуть можно.
Пепик радостно улыбался, прикладываясь к стакану. Вино действовало быстро. Изголодавшиеся парни пили жадно, лица у них разгорелись, глаза блестели.
Мирек не откупоривал своей бутылки.
— В жизни не брал в рот спиртного, — объяснил он Гонзику, — и, надеюсь, не возьму. После вина пища переваривается быстрее, а сейчас это ни к чему: проклятый шницель испортил мне настроение на весь вечер. Я-то с самого утра радовался! Разрежу, думаю, на мелкие кусочки и каждый буду жевать по полчаса в свое удовольствие! А сейчас, со злости, сожрал все в один присест и даже не заметил!
Солдаты за столом в углу начали петь. Они пели походные песни, не мелодичные, по-прусски бравурные, в такт стучали пивными кружками и громко смеялись. У капитана, сидевшего во главе стола, горели глаза. Гиль побагровел, лоб у него блестел от пота, он широко разевал рот и прикрывал глаза, его грубый сильный бас перекрывал все остальные. На фельдфебеля Нитрибита вино не действовало. Он сидел рядом с капитаном и, хотя в выпивке не отставал от других, оставался холоден и трезв; чем больше он пил, тем трезвее становился, тем яснее все видел и тем больше презирал своих соплеменников, не говоря уже о чехах. Нитрибит был высокий жилистый рыжеволосый детина с белым веснушчатым лицом. Он отличался сообразительностью и находчивостью, даже сам капитан побаивался его, зная строгость и неуступчивость Нитрибита, его слепую преданность фюреру и партии. Это был образцовый вояка, не прощавший слабостей и упущений остальным, даже начальству, жандарм среди солдат, опасный, как замаскированная мина.
Нитрибит знал обо всем, он умел пронюхать о любой проделке. Не понимая по-чешски ни слова, он мог по тону, по пожатию плеч, по усмешке понять, в чем дело, разглядеть дерзость в глазах. Провести, обмануть его было невозможно.
Через час после того как были откупорены бутылки, в столовой стало шумно, воздух посинел от табачного дыма, парни группками переходили с места на место, подсаживались к столам, пели. Было жарко, хоть задохнись, солдаты сняли мундиры, и только рыжий Нитрибит сидел застегнутый на все пуговицы, даже воротника не расстегнул, — это было бы не по уставу.
Олин молча и мрачно тянул свое вино. Его пьяные глаза горели, он курил одну сигарету за другой.
— Продай мне твою бутылку, — предложил он Миреку, допив свою. — А я дам тебе за нее сигареты и кое-что съестное.
— Я не курю, — ответил Мирек. — Да ты и так вот-вот свалишься под стол. А что за съестное?
— Завтра я жду посылку, колбасу пришлют.
— Это годится, — кивнул Мирек и подвинул свою бутылку Олину. Тот откупорил ее и налил полный стакан. — За наше здоровье, — сказал он и залпом осушил его. — За лучшее рождество! — Он пьяно рассмеялся. — Все вы дурни, — продолжал он презрительно, — и не видите дальше своего носа. Когда-нибудь вы поймете, что я был прав. — Он встал из-за стола и взял бутылку за горлышко. — И будете просить прощения и подлизываться… ко мне подлизываться!