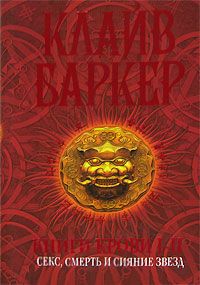— Завтра я жду посылку, колбасу пришлют.
— Это годится, — кивнул Мирек и подвинул свою бутылку Олину. Тот откупорил ее и налил полный стакан. — За наше здоровье, — сказал он и залпом осушил его. — За лучшее рождество! — Он пьяно рассмеялся. — Все вы дурни, — продолжал он презрительно, — и не видите дальше своего носа. Когда-нибудь вы поймете, что я был прав. — Он встал из-за стола и взял бутылку за горлышко. — И будете просить прощения и подлизываться… ко мне подлизываться!
Он направился к кухне, неся бутылку за горлышко и лихо ею размахивая.
— Чтоб ты лопнул! — сказал Кованда, вынул из кармана окурки и выпотрошил их на папиросную бумагу. — От этого Олина меня прямо мутит. Скажи-ка, чем он занимался раньше?
— Говорят, был продавцом, — ответил Гонзик, вертя в пальцах стакан. — Эда рассказывал, что Олин, служил в немецком магазине колониальных товаров. Эда очень удивлялся, что его там оставили и при протекторате. Только когда им понадобилось послать одного продавца по тотальной мобилизации, они вспомнили об Олине, потому что все остальные продавцы там были немцы. Но он, кажется, на них не в обиде.
— Да, он, видать, великая сволочь, — протянул Кованда, ловко скручивая сигарету. — Нечего сказать, достался подарочек в нашу комнату!
В углу столовой кто-то ругался и стучал кулаком по столу.
— Ого, как нализался! — сказал Карел и поднялся из-за стола. — Пойду-ка выведу его на свежий воздух.
Кованда кивнул.
— Кое-кто слишком приналег на вино, — заметил он. — В трактире дают только паршивое пиво, вот они и захмелели с непривычки. При голодном брюхе вино — плохое питье, другое дело — под жирную еду: кусок грудинки пожирней, с сольцой да перцем. Или вареное ухо, кусок шпика, всего по кусочку, и ломоть хлеба. — Он усмехнулся. — Ну вот, и я заговорил совсем как Мирек!
За столом немцев становилось все шумнее. Гиль орал песню, притопывая тяжелыми сапогами и стуча стулом. Он стоял без мундира, засучив рукава зеленой рубашки, широко расстегнутый воротник открывал черную волосатую грудь. Потный переводчик Куммер смеялся истерическим смехом, — чему — неизвестно. Рот у него был разинут, он ерзал на стуле и пронзительно свистел. Фельдфебель Бент спал, положив голову на стол. Унтер-офицер Миклиш поливал его лысый череп чернилами из своей авторучки, а рядом молча сидел трезвый солдат Липинский и хмуро наблюдал эту сцену.
Со стороны кухни к столу немцев с трудом подошел Олин с пустой бутылкой в руках. Мокрые волосы свесились ему на лоб и на глаза; он едва стоял на ногах. Дотащившись до стола, Олин плюхнулся на свободный стул.
Шум на минуту утих, все оглянулись на пьяного Олина. Опершись одной рукой о плечо пьяного унтер-офицера Миклиша и виновато улыбаясь, он неверными движениями принялся оттирать носовым платком чернила на голове спящего Бента.
Ребята внимательно наблюдали эту сцену, смутно предчувствуя, что добром все это не кончится. Мирек и Кованда встали и подошли поближе.
Немцы насторожились и притихли. Вытерев лысину Бента, Олин опустил голову на стол и замер, словно заснул. Теперь слышался только крик и топот пьяного Гиля. Наконец смолк и он. Оглянувшись, Гиль с удивлением увидел спящего Олина. Несколько секунд он недоуменно смотрел на него, потом насупился, подошел поближе, схватил своими волосатыми ручищами стул Олина и вырвал его из-под захмелевшего чеха. Тот свалился на пол, перевернувшись на спину, но не проснулся. Гиль подошел к нему и пнул его ногой, потом повернулся лицом к роте и гаркнул: «Kompanie, wegtreten. Ihr verfluchte Pollaken![19]
Капитан Кизер так поспешно поднялся из-за стола, что даже свалил свой стул.
— Gefreiter Hill, — крикнул он, — Maul halfen![20] — и, обернувшись к Липинскому и Рорбаху приказал: — Выведите его…
Но рота вдруг встала, как один человек. Люди устремились к двери, таща с собой перепившихся товарищей: они проходили мимо немцев, не обращая внимания на капитана, который яростно стучал кулаком по столу и писклявым голосом требовал, чтобы все вернулись на свои места. Кованда и Мирек подхватили валявшегося на полу Олина и понесли его к выходу. Через минуту помещение опустело, остались только немцы. Сначала они растерянно молчали, потом, обозленные, снова принялись за вино.
Стояла темная ненастная ночь. Чехи мрачно шагали по плацу.
— In vino veritas, — разглагольствовал Пепик. — Истина в вине. Мы, стало быть, распроклятые поляки, это у немцев бранное слово, самое что ни на есть скверное слово. Зря, выходит, Куммер готовил речь о справедливом мире и спокойной жизни. Гиль все высказал в двух словах. Чертовски откровенный тип. Такую откровенность надо приветствовать.
Пьяный гомон немцев слышался до глубокой ночи.
— Поют «Хорста Весселя», — сказал Гонзик. — Как раз подходящая песня для такой попойки.
Кованда и Мирек, тащившие Олина, с трудом переводили дыхание.
— Сколько весу может быть в этом подарочке? — вслух гадал Кованда. — У нас в деревне на убое скота я, помнится, носил на спине половину свиной туши. А целая она весила три центнера. Сколько же в этой?
Кто-то вспомнил, что оставил на столе недопитую бутылку.
— Там не меньше пол-литра, — жаловался пострадавший и хотел вернуться, но товарищи сердито удержали его.
— Пусть твое вино хлещет Гиль! — И они, не стесняясь в выражениях, принялись так честить немцев, распевавших сейчас «Хорста Весселя», что, будь с ними Куммер, ему нелегко было бы перевести все это на немецкий язык. Изобретателен человек, когда ему нужно выразить ненависть, горечь и жажду расплаты. Столь тонкие оттенки языка способен он использовать, что не найдется на свете переводчика, который мог бы их перевести.
Во мраке рванулся студеный ветер, и на землю пролился бледный свет луны. Быстро плыли рваные облака, небо то прояснялось, то темнело от туч, которые медленно расползались во все стороны.
— Как нас сплотили эти несколько минут! — сказал Гонзик, и ветер унес его слова. — Все, как один, встали и ушли. Им наперекор. Вот так бы всегда! Чтоб им не удавалось разобщить нас. Чтобы среди нас не было таких, кто не выдержал и изменил…
Небо над ними стало черным и нависло низко-низко, казалось, протяни руку и достанешь его.
— Найдись среди нас такой, он заслужил бы смерть, — раздался чей-то голос.
В пронизанной ветром тьме, среди резких, все нараставших порывов ветра, эти слова прозвучали как присяга.
Ветер перевернул темные клубы туч и швырнул их на утесы неба, разрядив тьму. Стремительная снежная крупа заструилась из бездонной глубины.
Пьяный Олин на плечах Мирека и Кованды бормотал что-то невнятное.
Рота работала на главной улице Саарбрюккена — «Адольф-Гитлер-штрассе».
«За это ее так и раздолбали», — заметил Кованда.
По обе стороны улицы тянулись высокие деревянные заборы, скрывавшие руины. Заборы были заклеены плакатами и анонсами местных кино: «Ich klage an», «Der zerbrochene Krug», «Jugend», «Die goldene Stadt», «Immensee»[21]. Рядом виднелись красные плакаты с черным шрифтом: «Plündern wird mit dem Tode bestraft!»[22]. Улица была широкая, залитая асфальтом, трамвайные рельсы прорезали ее посередине. От домов остались лишь груды развалин, кое-где торчали фантастические обломки стен, печные трубы и скрученные балки. Рота затерялась в этом лабиринте руин. Под присмотром солдат ребята разрывали развалины, открывали подвалы, выкачивали из них воду, сносили остатки стен, разбирали кирпичи, складывая их в штабеля, собирали обнаруженные вещи: одежду, шляпы, столовые приборы, книги, продырявленные картины, стулья.
— Найденные вещи, особенно ценности, незамедлительно сдавайте караульному солдату, — насмешливо процитировал Мирек приказ, который ежедневно повторяли роте.
— Караульный примет от вас означенные вещи, запакует их и отправит к себе домой, — подхватил Пепик. — Позавчера Станда возил для Гиля посылку на почту — ящик весом тридцать кило. Хотел бы я знать, чего Гиль туда напихал?
— Позавчера? — задумался Кованда. — Наверное, те приборы… ну, конечно! Мы там, напротив, откопали большущий шкаф со столовым серебром. Там был шикарный отель или что-то вроде. Гиль утащил ящики к себе в будку и все утро пересчитывал приборы. Этакие увесистые, серебряные, и на них надпись «Отель Дойчланд хауз». Видать, послал их своей любимой женушке. А я, — сокрушенно признался Кованда, — присвоил два полотенца из соседней кучи. Этакие мохнатые и по всей длине выткано «Саарбрюккен». По-моему, не такой уж это грех: мои полотенца давно износились, не писать же жене, чтоб прислала новые.
Ребята не отвечали, и Кованда заволновался:
— Выходит, я должен был отдать их Гилю? Так, что ли, по-вашему? Он и без того унес две дюжины, а Рорбах утащил новехонькое постельное белье, даже с бантиками.