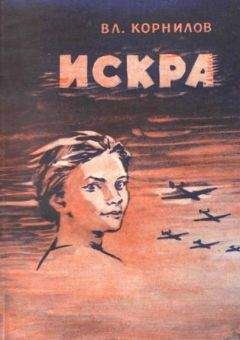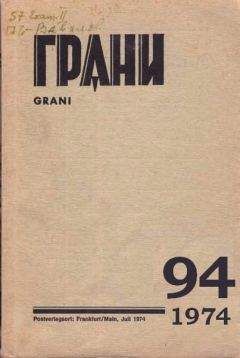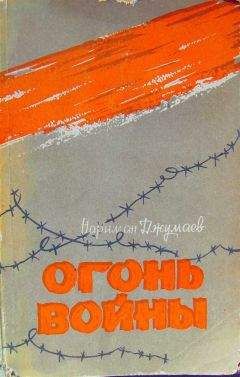Какая тайная опасность окружала Николу, понять мы не могли, пока староста не проговорился, и опять-таки у Искры в доме!
«…Кольку-то, Кольку Горюнова при комендатуре держат! Уличили вроде бы связь с партизанами, через него ищут сообщников… Не приведи, Господь, ежели такое подтвердится! Погинет деревня, вся, как есть, погинет!..» — Староста жаловался матери Искры, а выходило — в который уже раз! — будто предупреждал кого-то, кто должен был про то ведать.
Дня через три, уже к ночи, в кладовочку, где я спал, стукнули. Тихонько, на цыпочка, прокрался я в крыльцо. Из тени дома так же тихо подался ко мне Колька. Сели назавалинку, Колька дышал тяжело, с присвистом, как дышат старики, все потирал грудь, говорил с остановами, воздуха не хватало ему.
— Партизан, Сана, полицаем оказался. Искра правая была. У ее чутье на гадов… Заграбастал меня в комендатуру. Били, в груди повредили… Кнутом хлыстали, как ни одну лошадь не бьют… Эва, вот… — по движению его рук я понял, что он задирает рубаху. — Пощупай-ка….
Заранее пугаясь, я провел как мог осторожно по узкой его спине, и пальцы мои, как по боку корзины, пробежали по жестким, будто сплетенным, рубцам.
— Жалко тебя, Никола. И стыдно! — сказал я, не давая прорваться злым, обидным слезам. — Тебя одного за всех!
— Ладно, как одного! Кабы повел этого партизана в землянку, — думаешь? Там оружье, пулемет… Всю бы деревню подчистую пожгли. Когда б не Искра, куда б дело повернулось?.. Со мной-то что? Спознали, гады, что в дальние деревни ходил. Про деда пытали… «Дед», Сашка, оказывается, кличка тамошнего партизанского командира. А я одно долдоню, к своему, мол, дедушке шел… Отступились. У них там расписано про родню. Сошлось, что дед все ж был…
А самолет сбитый задницу им прожег. Ох, лютуют! Дознаться не смогают. С самого верху, видать, приказано того стрелка сыскать… Фига с два, ищут ветра в поле… Ты, Саня, скажи Искре, чтоб пока не ходила в землянку. У их везде — глаза поставлены. Следят… Тогда меня подпустили, чтоб по деревне и по за ней прошел. Следили, кто подойдет. Я уж «сопливил, сопливил»… Хорошо спроворили, не сунулись… А то б и вас всех прибрали!.. Худо мне, Санька. Что били, грудь отбили — все бы ничего… Меня, Сань, в Германию угоняют. Детишек поднабрали со всех мест… Теперь за Рудню, к железке повезут. Умолил я с маткой проститься. Не знаю, с какого бока староста наш, деревенский, подкатил, за меня перед ими поручился. С чего бы это, Сань?..
— Так ты оставайся! — возрадовался я. — Спрячем, кормить будем. Пока наши не придут!..
Колька долго молчал, тер потихоньку грудь, Вздохнул тяжело, так, что пискнуло у него в горле.
— Не можно, Сань. Тогда матку заместо меня погонят… А куда ей?!. Вся болезная. Соседями только и держится… Нет, Сань. По всему видать, мне в чужие края подаваться… Ты Искре скажи, что… Ну, это самое. Что я не только о себе. Что тоже — человек… — Колька встал, неловко обнял меня. Осторожно, как лесной зверек, ушел в темноту.
На другой день, когда все это я рассказал Искре, узнал, что опять у них в доме был староста и такое вот сказал:
— Три машины ребятеночков из Сходни отправили. Нужда, видать, в детишках там, в Германии. Какая нужда, то нам неведомо… Вот и у Горюновых мальчишку отправили. Отправили Кольку-то! — и добавил, вроде бы нас всех жалеючи:
— Второго мальца не уберегли!..
В глухой зимний вечер вошла в дом к Искре Таисия Малышева — строгая бабка Сереги. Покосилась в угол, где со времен еще деда, похороненного до войны, тускло отсвечивала иконка с зажженной лампадкой. В раздумье приложила пальцы, сложенные щепотью, ко лбу, перекинула с плеча на плечо. Откутала с головы черный платок, скинула на плечи, села на табурет у нагретого бока печи, уставила взгляд на коптящий огонек лучины, приклоненной низко к корытцу. Не сводя глаз с огонька, сказала стоявшей тут же у стола хозяйке:
— Слышь-ка, Катерина, сходи на час к Дуне. Одна вечеряет. С дочкой твоей поговорить надо.
Слово тетки Таисии — закон для деревенских. Мать Искры, с тревогой поглядывая на дочь, собралась, вышла.
Искра сменила лучину, застыла над столом в ожидании.
— Не дивись, дочка; что к тебе пришла говорить, — ровным голосом сказала тетка Таисия. — Нужда привела. Не своя. Поймешь, как скажу. Только прежде обмолвлюсь: еще при жизни Сереженька мне доверился. Знал, и ты знай: слово, Таисье доверенное, железом не вытащишь. Потому не отводи глаз, не поминай про клятву, что друг дружке сказывали. Я клятву свою дала, перед собой дала. В этом мы с тобой сродни…
Тетка Таисия глянула прямо в глаза. Искра, сдавив до боли кулаками щеки, молчала, не могла догадать, что потребует сейчас от нее суровая бабка Сереги. Медлила и Таисия, словно про себя взвешивала нужду: знала, то, что скажется, невозвратно. Еще раз, остерегаясь, предупредила:
— Знаю, дружки у тебя верные. Но что сейчас скажу, для тебя, для одной. Знать о том будем ты и я. Никто боле. Так вот, дочка. Выходили мы наших, пораненных, от плена бежавших. Анна за то жизнью поплатилась. Но солдатушек уберегли. В леса надобно им отправляться. Безоружно, сама понимаешь, через войну не пройдешь. Партизаны безоружных тоже не жалуют. Стало быть… Знаю, дочка, про вашу захоронку. Может, одна знаю, что такая есть. Вот и пришла к тебе.
Тетка Таисия была спокойна. Каждого в деревне знала, от мала до велика, как собственных деток. И не страшилась, что с Искрой может случиться промашка. Видя, как в сомнениях заметалась девонька, поняв, сколько непосильных мыслей-чувств столкнулось в юной головке, взяла на себя грех полуправды. Подсказала тетка Таисия, что и как сказать нам, то есть мне и Леньке-Леничке, чтоб не заупрямились мы, но чтоб не сказать и про солдат спасенных.
Искра покорилась воле тетки Таисии, позвала нас к себе. И когда, как обычно, мы собрались вместе вроде бы почитать из прежде припрятанных книжек, Искра, пригнувшись к нам, заговорщически шепнула:
— Мальчики, от настоящих партизан люди были! — увидев, как вспыхнули мы радостью, неуверенно повторила: — Объявились в Речице… — и с подозрительной поспешностью пояснила: — С оружием у них плохо. Вот я и думаю, может, отдадим?!
Ох, Искра, Искра, для нас вся-то была она прозрачна, как речка родниковая. Ни в ком неправды не терпела, лживинки к себе не допускала! А тут… Тужится что-то укрыть в себе, а в душе неловкость, в лице неловкость — хоть глаза отводи! Мне бы не заметить, так нет — обида ум перехлестнула.
— Та-ак, — проговорил я, растягивая слова, чтобы Искра поняла всю горечь оскорбленных чувств. — Ясненько. С тобой кто-то говорил, тебе доверился, а мы, оказывается, не те, которые достойны… которые друг за друга. — Я хотел сказать: которые жизни готовы отдать друг за друга, но горло перехватило, сгреб я со стола шапку, пошел к двери! Ладно, что дверь не успел толкнуть, глянул, уходит ли со мной Ленька, а глянувши, будто обжегся о взгляд Искры. Нет, она не вскочила остановить меня, нет, словечком не окликнула! Только глядела мученическим взглядом, таким, что дурь моя и обида враз отлетели.
Стыд перед Искрой, перед Ленькой-Леничкой обжег — Леничка-то сидел от меня отвернувшись, показывал, что не на моей он стороне! И вернулся я, сел на лавку, в стыдобушке сунул шапку меж колен.
— Ладно, уж, прости, — сказал хмуро.
Искра ладошками закрыла лицо, пролепетала, не отнимая рук:
— Нет, это вы меня простите, мальчики. Виновата я, не все сказала, как есть. Я слово дала…
Ленька-Леничка, все еще не глядя на меня, отозвался:
— Не в чем тебе каяться, Искра. Слово дала — держи. Твое слово — наше слово. Санька и я тебе доверяем. А то, что он вздыбился, так это не от тебя. Терпенья уж нет в обиде жить! Чего спорить-то? Надо, так надо. Давайте думать: куда и как переносить. Землянка-то снегом завалена!..
Вот уж воистину: один от дури поглупеет, другой вразумит!
Снова и снова вспоминаю наши два камушка на веревочке, запущенные ввысь: один другого поддернет — оба летят!
Как бывает только в отрочестве, сразу и согласно забыли мы об обидах. Искра с хозяйской озабоченностью заспешила к печи, забавно шаркая по полу большими стоптанными, с обрезанными голенищами валенками. Длинная материнская юбка, два раза обкрученная вокруг тонкого ее тела и подвязанная веревочным пояском, заштопанная зеленая кофта с подвернутыми до локтей рукавами придавали ей какой-то особенно уютный, домашний вид. С раскрасневшимся лицом, с буйно-рыжими волосами, она хлопотала у печи, среди ухватов и чугунов, как Золушка, которой еще предстояло попасть на королевский бал.
Поставив на выскобленную столешницу помятую алюминиевую миску с еще влажной картошкой, исходящей парком, Искра каждому дала по маленькой луковке, насыпала на тряпочку щепотку соли.
— Макайте, ешьте! — сказала озабоченно. — Жалко, другого нет. Ну, да как-нибудь? — и улыбнулась виновато нам обоим.