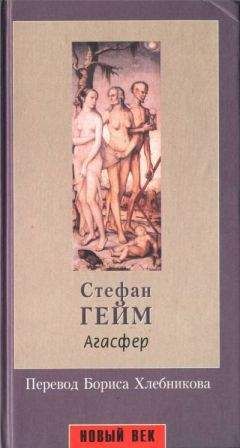На мощных руках вдовы зазвенели браслеты.
— Но как же можно! — чирикнула она. — Мы ведь никогда не вмешивались в политику. Что мог делать мой муж? Отказываться от правительственных заказов? Чтобы Геринг конфисковал все его имущество? Чтобы его самого заперли в концентрационный лагерь?
Петтингер сказал: — Папа всегда держался корректно.
— Я понимаю, — сказал Уиллоуби. — Герр фон Ринтелен стремился сохранить то, что имел, но именно потому вам сейчас грозит опасность это потерять. Как вы думаете, сколько американцев погибло от продукции ринтеленовских заводов?
— Вы ведь не судите немецких солдат за то, что они в вас стреляли? — вступился Лемлейн. — Они только выполняли приказ.
— Не судим, но сажаем за колючую проволоку, — сухо возразил Уиллоуби.
Петтингер был спокоен; он видел, что его убежищу ничто не угрожает. Если среди американцев и есть люди, которые так смотрят на немецких промышленников, то эти люди не пользуются властью — иначе они овладели бы ринтеленовскими заводами в тот самый день, когда их войска заняли Креммен.
— Если вы явились, чтобы арестовать меня, — тоном героини произнесла вдова, — я готова.
Уиллоуби удивлял звук ее голоса. Казалось, это вовсе не она говорит, а где-то в ее огромном животе спрятан музыкальный ящик.
— Я уже сказал, что понимаю ваше положение. И что я отношусь к вам без предрассудков. Если нам удастся достигнуть взаимного понимания, Лемлейн будет сделан кремменским мэром. Если нет — вы рискуете потерять все, даже этот дом.
Лемлейн сказал:
— Мы — побежденные. Мы готовы на все — в пределах разумного.
— Правильная постановка, — сказал Уиллоуби. — А вы что скажете, сударыня?
— То же самое.
Уиллоуби был удовлетворен.
— Заводы принадлежат целиком семейству Ринтелен?
— Да, — с гордостью сказала вдова.
— Это плохо, — заметил Уиллоуби.
И Петтингер, и Лемлейн насторожились. Оба понимали, что вот теперь Уиллоуби подходит к сути дела. Памела вдруг почувствовала к нему ненависть. Ее рука сжала руку Петтингера и ощутила ответное пожатие.
— Вы сами должны понимать, — продолжал Уиллоуби, — что в наши дни любое немецкое предприятие представляет весьма ненадежную ценность. Мы можем отнести его к военному потенциалу Германии — и разрушить, можем включить в список репараций… Вам необходимо иметь кого-нибудь за границей, кто был бы заинтересован в делах фирмы…
— Делакруа! — вскричал Лемлейн.
Уиллоуби едва не подскочил на месте. Он все это время ломал себе голову, как бы подипломатичнее навести разговор на «Амальгамейтед стил»; но это даже лучше. Сохраняя невозмутимость, он спросил:
— А что Делакруа?
Но Лемлейн уже опять приуныл:
— К сожалению, это дело прошлое. Когда наши войска заняли Париж, герр фон Ринтелен поехал туда и имел свидание с князем Яковом Березкиным — вы знаете, кто такой князь Березкин?
— Слыхал о нем, — усмехнулся Уиллоуби. Петтингер завозился под своими пледами. Париж, дни победы и дни отступления, Березкин и Сурир… Ему вдруг тоже захотелось сказать, как вдова: «Ах, вы нас придавили к земле».
— И князь согласился на предложение, которое ему сделал герр фон Ринтелен, — сказал Лемлейн.
— Шантаж! — вскричал Уиллоуби.
Лемлейн оглянулся на портрет покойного магната.
— Сила убеждения — скажем так: сила убеждения.
— Шантаж! — настаивал Уиллоуби.
— Герр фон Ринтелен откупил у фирмы Делакруа те двадцать процентов своих акций, которые до тех пор числились за ней.
— Сделка не имеет законной силы. Ее не признает ни один суд. Говорю вам это как американец и как юрист.
— Но у нас есть все документы! — сказал Лемлейн.
— Документы! — презрительно фыркнул Уиллоуби. — Документы, подписанные под дулом револьвера.
— Герр фон Ринтелен никогда не прибегал к подобным грубым методам!
— Мистер Лемлейн! В наших общих интересах утверждать, что это было именно так.
У Петтингера снова начался приступ кашля.
— Да, конечно, — с трудом выговорил он. — Будем утверждать, что так.
Уиллоуби вздохнул.
— Вы, немцы, лишены всякой проницательности. Я давно в этом убедился. Пока вас не подтолкнешь, вы не способны трезво взглянуть на вещи.
Лемлейн кивнул в знак согласия. При таком обороте вдова дешево отделается. Если двадцать процентов ринтеленовских акций будут возвращены фирме Делакруа, это значит, что ценой этих двадцати процентов будут сохранены остальные восемьдесят. Не так плохо, особенно если учесть, что старик Максимилиан получил эти двадцать процентов фактически даром — ведь он платил князю оккупационными франками, иначе говоря — просто бумагой.
— Еще чаю? — предложила вдова.
— Нет, благодарю, — сказал Уиллоуби. Ему рисовались радужные картины. Вот он является к князю Березкину и предлагает вернуть ему утраченные фирмой Делакруа акции предприятий Ринтелен. В ответ на эту услугу князь вступает в соглашение с «Амальгамейтед стил». И возникает мощный комбинат Амальгамейтед—Делакруа—Ринтелен, способный перестроить мир, и перестроить его в стали! И не кто иной, как он, Уиллоуби, вручает этот лакомый кусочек фирме «Костер, Брюиль, Риган и Уиллоуби». Да нет, уж после этого, пожалуй, фирма будет писаться: «Уиллоуби, Костер, Брюиль и Риган» и что-что, а кресло в правлении «Амальгамейтед» ему обеспечено; ни старик Костер, ни все эти остальные воротилы — люди не мелочные, это следует признать.
Он поднялся.
— Благодарю за приятный вечер.
— Спасибо, сэр, — просиял Лемлейн, обеими руками пожимая руку Уиллоуби.
Петтингер дремал в кресле. Прием гостя оказался чересчур большим испытанием для его слабых сил.
Первым побуждением Келлермана было — бежать.
Герр Бендель, директор отдела гражданского обеспечения кремменского муниципалитета, не преувеличивал, называя это место «Преисподней». Здесь прежде было общежитие для иностранных рабочих, на заводах Ринтелен широко использовался рабский труд. Американцы вывезли их отсюда и переселили в только что организованные лагеря для перемещенных лиц, где условия были немногим лучше. Вокруг «Преисподней» по-прежнему шла ограда из колючей проволоки, верхний этаж был разрушен зажигательными бомбами, а обитатели дома с тех пор, как он стал называться Убежищем для политических жертв национал-социализма, жили еще в большей тесноте, чем в свое время порабощенные рабочие.
С тяжелым чувством усталости от ожидания неизвестно чего Келлерман бесцельно слонялся по темным, сырым комнатам; даже сухой, пыльный зной лета, проникавший сквозь разбитые окна, не мог разогнать застоявшийся запах плесени и тысяч немытых, натруженных тел. Это была та же тюрьма, тот же лагерь, только без часовых.
Так почему же он не бежал? Почему все они не бежали? Никто не удерживал их в «Преисподней». Но куда было идти в разоренной стране вчерашним узникам концлагерей, еще носившим на себе клеймо своего недавнего прошлого?
Келлерман повторял себе, что ему ничего не остается, как только ждать, пока выйдет из больницы профессор. Еще счастье, что старик лишился чувств в приемной у герра Бенделя. Упади он просто на улице, когда они бродили среди развалин в надежде встретить хоть одно знакомое лицо, — он, вероятно, уже не встал бы. Помощи было ждать не от кого. Население сторонилось таких, как они, потому что эти полосатые лохмотья выделяли их из общей массы, связывали их как-то с победителями, обличали в них свидетелей преступлений, о которых никому не хотелось вспоминать. Кто же оставался — подставные хозяйчики предприятий, на которых Келлерман пробовал искать работы? А ведь работа была — ее было столько, что хватило бы на долгие годы всему трудоспособному Креммену. Но никто ничего не предпринимал. Американцы, видимо, дожидались, чтобы немцы начали; а немцы дожидались приказа от новых властей, но власти ограничивались длинными перечнями того, что считалось verboten[15]. А в немногом, что пока делалось, обходились и без Келлермана.
Как глубоко прав был профессор: «Status quo ante»[16], — сказал, усмехаясь, Зекендорф. «При нацистах мы были последними людьми в стране. Оттого, что сверху над нацистами сел еще кто-то, мы не поднялись выше». И профессор предложил обратиться в отдел гражданского обеспечения.
Его обморок в помещении отдела заставил Бенделя принять меры, вызвать санитарную машину и отправить старика в кремменскую больницу скорой помощи. Положительно это была насмешка судьбы, что Бендель все-таки сделал одно доброе дело. Нельзя же было считать добрыми делами выдачу продовольственных карточек и направлений в Убежище для политических жертв национал-социализма. Еще большей насмешкой должно было показаться Келлерману, что после долгого и тягостного перехода из Нейштадта, после первых мучительных кремменских недель единственным знакомым лицом, которое он здесь увидел, оказалось лицо Бенделя — его колючие глаза так же точно смотрели поверх очков в стальной оправе, как при республике и при нацистах.