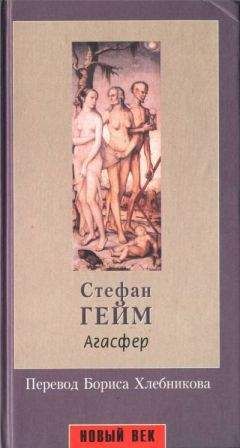В конце концов Келлерман должен был признаться себе, что он попросту оттягивает решение. Ожидание профессора было шитым белыми нитками предлогом для того, чтобы ничего не делать. И все же он продолжал жить в «Преисподней», валялся в грязи, своей и чужой, и ел суп, который раз в день наливали каждому из огромного закопченного бака.
Иногда он принимался создавать грандиозные планы всеобщего спасения, но тут же падал духом, убеждаясь в их неосуществимости. А в общем, эта жизнь затянула его, как затягивала всех, кто сюда попадал. Он видел это не раз. Он видел, как надежда, еще озарявшая лица новых пришельцев, гасла, точно пламя свечи под опрокинутым стаканом. Некоторые пускались на воровство, потому что они ничего не имели и во всем нуждались. Это привело к тому, что от них крепче стали запирать двери — там, где еще уцелели двери. И они крали друг у друга: ложку, оловянную миску, окурок, старый носовой платок, пару рваных штанов — все, что еще сохранилось или же вновь завелось у соседа.
Келлерман пытался этому помешать. Но, как видно, его дар руководителя изменил ему. Тон в убежище задавали такие люди, как Бальдуин или Карл Молоток. Келлерману этот тип был хорошо знаком; нацисты намеренно прослаивали население концлагерей уголовным элементом — из бывших сутенеров и осужденных убийц выходили отличные старосты, надсмотрщики, ябедники и шпионы. После освобождения заключенных вместе с другими в «Преисподнюю» попали и такие люди.
Бальдуин, элегантный мужчина в лакированных туфлях, брюках с безукоризненной складкой в полосатой тюремной куртке, которую он продолжал носить ради устрашения кремменских обывателей, предлагал Келлерману вступить в его шайку. Он рисовал заманчивые картины осуществляемых с необычайной легкостью налетов и грабежей, рассказывал, как он и его приспешники вламываются в запертые дома и как спускают на черном рынке свою добычу.
— Спасибо, — сказал Келлерман. — Я сидел в лагере за другое.
Бальдуин наморщил свой сплюснутый нос — когда-то он был переломлен и неудачно сросся.
— Что, полиции боишься?
Келлерман только молча пожал плечами.
В комнате появилось новое лицо — девушка, хорошенькая даже в своих лохмотьях.
— Есть тут свободная койка?
Бальдуин взял ее двумя пальцами за подбородок и критически оглядел. Затем спросил, обращаясь к Келлерману:
— Недурна?
Келлерман, очнувшийся от своих мечтаний, смотрел на девушку. Она показалась ему красивой, даже незаурядно красивой.
— Не для тебя! — сказал он Бальдуину.
Бывший сутенер дружески подшлепнул девушку сзади и спросил:
— Пойдешь со мной?
Девушка смерила его взглядом.
— Нет, — сказала она.
— Захотел бы, так пошла бы, — выразительно заметил Бальдуин.
Келлерман привстал с койки.
— Да не больно нужно, — заключил Бальдуин. — Мне от вашей сестры и так деваться некуда. — Он повернулся к дверям, где высилась богатырская фигура Карла Молотка. — Пошли, — бросил он.
Келлерман проводил их глазами. Девушка присела на край его койки.
— Вы долго были там? — спросил у нее Келлерман. Где — «там», уточнять не требовалось. «Там» могло означать только одно.
— Два с половиной года, — ответила девушка. — Сначала в тюрьме, потом в Бухенвальде.
Он взглянул на нее с участием. Грязные руки, лицо, шея, ноги, мешковатое, уродующее платье — и все-таки в затхлой атмосфере «Преисподней» от нее веяло чем-то здоровым и свежим, может быть, потому, что она только что попала сюда. Красная ленточка перехватывала волосы, оттеняя их темный блеск. В глазах мерцали веселые искорки, и когда она подняла взгляд на Келлермана, коричневые зрачки впились в него так напряженно, что на миг показалось, будто она косит. Кожа у нее была смуглая от загара — нежная гладкость этой кожи даже как-то не вязалась с мыслью о двух с половиной годах лагеря и тюрьмы.
— За что вас взяли? — спросил он.
— За что, за что, — огрызнулась она. — Наверное, им мой нос не понравился.
— Простите…
— Терпеть не могу, когда меня расспрашивают. Слишком много мне в жизни пришлось отвечать на вопросы, и приятно это никогда не было.
Разговаривая, она шевелила пальцами босой ноги. У нее были красивые ноги, длинные, стройные, с округлыми коленями — ее поза давала возможность хорошо рассмотреть все это.
— Меня зовут Марианна.
— А меня — Рудольф Келлерман.
— Вы тут один? — Она незаметно пододвинулась чуть поближе.
От него не укрылось ее движение, и он сказал:
— Да. — И помолчав, прибавил. — То есть не совсем. Был со мной один старик, но его увезли в больницу. Говорят, он выйдет оттуда недели через три, не раньше.
Марианна подумала: «Вот-вот, он как раз из таких, что таскают за собой больных стариков». Но вслух сказала только:
— Вам бы нужны друзья помоложе.
— Мы вместе сидели в лагере «Паула», — сказал Келлерман. — Вместе бежали оттуда. Это человек, не приспособленный к жизни, — старый ученый, профессор. В свое время пользовался известностью. Профессор Зекендорф из Мюнхенского университета.
— Я его знаю! — воскликнула девушка.
Келлерман заметил, как она оживилась.
— Знаете? Откуда?
Она сунула руку за вырез платья и достала замусоленную газетную вырезку.
— Вот — это из новой газеты, которую издают американцы…
Келлерман внимательно прочитал заметку. Это было письмо в редакцию за подписью доктора Фридриха Гросса из кремменской больницы скорой помощи, который, по его словам, некогда изучал латынь под руководством Зекендорфа. «Редакции и широким читательским кругам, может быть, не безынтересно…» — так начиналось это письмо, а дальше шла подробно и несколько витиевато изложенная история профессора и его двух детей вплоть до того дня, когда старый ученый упал в обморок в приемной герра Бенделя и был препровожден в больницу скорой помощи, где находится и сейчас, под наблюдением автора настоящего письма. В заключение было сказано, что люди, подобные профессору Зекендорфу, представляют то лучшее, что есть в Германии, истинной Германии мыслителей и поэтов.
Келлерман вернул вырезку, взволнованный, как всегда, когда что-нибудь напоминало ему о профессоре Зекендорфе. Девушка бережно сложила затертый клочок газетной бумаги и спрятала его на груди. Она думала о том, как это здорово вышло, что заметка попалась ей на глаза, что она сумела достаточно внимательно прочитать ее и что наконец именно здесь, в «Преисподней», она столкнулась с человеком, который мог пополнить ее сведения о Зекендорфе. Она обладала безошибочным чутьем, которое никогда ее не подводило; ее хорошенький носик словно сам собой поворачивался в ту сторону, где пахло какой-нибудь удачей. И пока она полагалась на свое чутье, все шло хорошо; а стоило один раз пренебречь им — и дело кончилось арестом и тюрьмой. Ведь надо же было такое — залезть в карман к переодетому полицейскому шпику! Что-то внутри говорило ей: «Не нужно!» — но он был так хорошо одет, казался таким сытым, солидным и глупым!
— Зачем вы бережете эту вырезку?
Она так ушла в свои мысли, так была поглощена планом, который созрел в ее голове, что Келлерману пришлось повторить вопрос.
— Что? Ach ja… — Она решила не торопиться.
— Я спрашиваю, зачем… Не бойтесь, мне можно доверять.
Что доверять ему можно, она не сомневалась. Но не в том сила.
— Очень просто, — сказала она наконец. — Моя фамилия тоже Зекендорф.
Она взглянула ему прямо в глаза. В них отразились последовательно: удивление, радость, потом недоверие. Старик часто говорил о своих детях, но ни разу за все время, что они были вместе, он не упомянул о существовании Марианны Зекендорф.
Она тем временем вытащила еще один лоскуток бумаги. Это было подписанное Бенделем направление в «Преисподнюю». На нем, скрепленное личной подписью директора отдела гражданского обеспечения, черным по белому значилось ее имя: Марианна Зекендорф.
— Вы родственница профессора?
Ответ последовал без промедления, без запинки:
— Родная племянница… Бедные Ганс и Клара. Тогда-то меня и арестовали, в Мюнхене, перед зданием университета. Хотели заставить меня говорить. Хотели вырвать у меня признание, что я помогала распространять листовки. Но я молчала. Какой это был ужас! Меня били… Нет, следов не осталось, — поспешила она добавить. — Не знаю, чем меня били, но только я думала, что не выживу.
Келлерман, которому не раз пришлось испытать на себе то, о чем она говорила, сказал участливо:
— Не надо об этом. Постарайтесь забыть. Мне все это знакомо. Ночью, когда не спишь, как будто снова все переживаешь…
— Я ни в чем не призналась! — сказала она гордо, подняв на него свои темные, чуть косящие глаза.
Это была чистая правда. Гестаповский чиновник, допрашивавший пойманную воровку, отметил мимоходом тот факт, что она является однофамилицей двух видных студенческих лидеров. Но хотя все трое были арестованы почти одновременно в одном районе одного города, это сочли случайным совпадением. Гестапо установило, что отец Марианны был простым гейдельбергским жестяником, и на том успокоилось; ее судили коротким, но беспристрастным судом и приговорили к тюремному заключению.