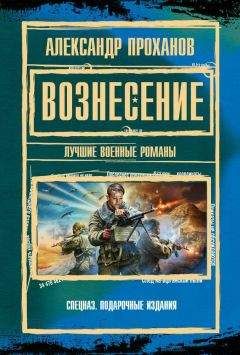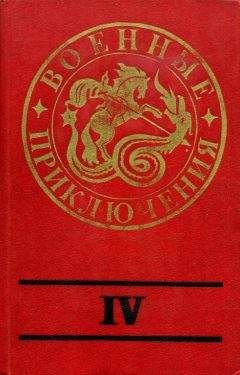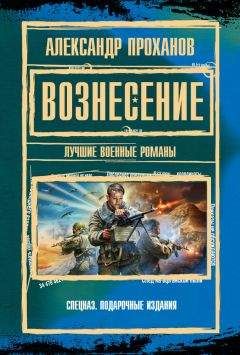— Я ждал тебя, мама… Подойди… Я тебя исповедую…
Она приближается, встает перед ним на колени, чувствует, как на голову ей ложится епитрахиль. И просыпается с криком.
Ее темная пустая спальня. Красная клюковка лампады. В страхе, с колотящимся сердцем, она лежит вся в слезах.
Стая голодных собак в течение дня с далеких холмов наблюдала черную, окутанную испарениями реку, глазированный солнечный берег, недвижные, разбросанные взрывами трупы. Издалека ловила запахи крови, остывающей человеческой плоти. Лишь ночью, когда загорелись звезды, старый вожак с обгорелым до костей боком повел стаю к реке, чутко внюхиваясь в дуновения ветра, вслушиваясь в похрустывания наста, всматриваясь угрюмыми глазами в ночное мерцание снегов. Пахло холодной рекой и умершими людьми, в которых смерть остановила горячие и опасные запахи жизни. Выгибая костлявую спину, приседая на задних лапах, вожак первым спустился с холма на берег, где лежали мертвецы, и ждал, приподняв загривок, не раздастся ли крик, не полыхнет ли огонь, вонзаясь под кожу раскаленной болью. Но было тихо, позванивала наледь реки, отражались туманные звезды, и в снегу, черные, поваленные, лежали мертвые люди.
Вожак, оседая на хвост, съехал по наледи и, проламывая хрупкую корочку наста, приблизился к мертвецу. Тот лежал, опудренный снегом, приподняв стиснутые кулаки, в которых застыло древко с негнущимся заледенелым полотнищем. На жестяном волнистом листе была нарисована собака с острыми ушами, и вожак, разглядев свое изображение, обошел стороной знамя, всматриваясь в мертвое лицо, не дрогнут ли веки, открывая живые блестящие глаза. Но лицо оставалось недвижным, в нем, как в глыбе льда, слабо отражались звезды, и вожак вцепился в перебитую ногу, пьянея от вкусного запаха замороженной крови. Стал рвать клыками твердую ткань, добираясь до костей и волокон. Стая, услышав урчанье вожака, удары зубов о кость, спустилась на берег, разбрелась среди убитых, начиная их драть и глодать. Пойма наполнилась хрустом, рычанием, лязгом зубов, скрипом и скрежетом разрываемых сухожилий, желтым блеском голодных свирепых глаз.
Молодая тощая сучка с обвисшим выменем и обмороженными сосцами, поджав лысый хвост, поскуливая и заискивая, подобралась к вожаку. Захлебываясь голодной слюной, сунулась было к трупу, норовя ухватить торчащий обрубок ноги. Но вожак крутанул тяжелой башкой, злобно захрипел, обнажая кривые клыки, и сучка, жалобно взвизгнув, отскочила в сторону. Там, куда она отскочила, тьму разорвал грохочущий рыжий огонь. В этом огне возникла взлетающая сучка, изогнутая, с повисшими ногами. Вожак, не дожидаясь, когда погаснет пламя с черной, перевернутой сучкой, огромным скачком перепрыгнул мертвого человека и помчался по берегу. И вся стая кинулась следом, перескакивая вмороженные тела, проламывая наст, выстилаясь под звездами. Звучали взрывы. Подорванная собака подпрыгивала над красным ворохом, шмякалась в снег, окруженная дымом и гарью. А мимо, озираясь на разорванную пламенем тьму, уносилась стая, и звезды, размытые в беге, казались золотыми, выдернутыми из неба шнурами.
Художник Зия завершал картину, нарисованную на ломаной кирпичной стене, пропуская над головой незримые вихри снарядов, от которых на землю падал длинный ноющий звук, словно серп подрезал огромные металлические тростники и они, подрезанные, кипами ложились на город. Картина изображала смертельный бой.
Рота русских десантников держала высоту, зарылась в снег. А по склону, вал за валом, атаковали чеченцы. Кидали из труб гранаты, забрасывали окопы частыми гремучими взрывами, били от животов пулеметами. Получали сверху в ответ разящие очереди, косматые трассы, разрывы гранат. Склон был в чеченских трупах. В окопах лежали окровавленные, растерзанные взрывами десантники. Ротный по рации связывался через горы с далеким штабом, докладывал о потерях, о нехватке боеприпасов, о том, что снизу движется новый вал атакующих, а в его окопах почти не осталось живых.
— Тайфун, я — Гранит!.. Если через полчаса… через полчаса… не выйду на связь… вызываю огонь на себя!.. Огонь на себя!.. Прощай, Коногонов!.. — Отбросил рацию, ухватил окровавленными кулаками горячий пулемет, взволновал грохочущую ленту с желтыми пулями, кося надвигавшуюся черную цепь.
Рукопашная, в которой сошлись остатки роты и чеченский отряд, была страшна, наполнена рыком, хрустом костей, лязгом зубов, треском разрываемой плоти. Бились молча и жутко штыками, ножами, лопатками. Посылали друг другу в лицо короткие пистолетные выстрелы. Гора шевелилась, по ней ползли умирающие люди с ножами в груди, с дырами во лбах, оставляли в снегу красные горящие борозды.
Прапорщик бился с чеченцем, ударяя кулаком в бородатую голову, в выпученный ненавидящий глаз. Получал удары кастетом, который дробил ему кости лица, срывал шипами кожу и мышцы щек. Слабея, ударил чеченца под дых, услышав, как треснула у врага селезенка и сквозь бороду хлынула жидкая кровь. Получил удар кастета в висок, чувствуя, как хрустнула кость и в ослепший мозг погрузилась свинчатка. Падали один на другого, матерились, плевались, хватали друг друга зубами. Рухнули разом в снег. Их души вырвались из погубленных тел, выпутались из сплетения жил, продрались сквозь тесные ребра, вылетели из кричащих ртов. Изумленно летали, взирая на оставленные ими тела, на горячую жижу и кровь, на страшные, искаженные болью лица. Увидали друг друга. Изумились. Кинулись друг другу в объятия, благодаря Создателя за то, что выпустил их наконец из бренной плоти, обреченной убивать и страдать. Невесомые, счастливые, похожие на туманные сгустки света, ринулись ввысь, на небо, оставляя под собой дымную, окутанную взрывами гору.
Ротный священник схватился с муллой. Оба в камуфляжах и бутсах. Бились головами, пинались ногами, залезали друг другу в рот грязными пальцами, разрывая губы и ноздри. Бархатная скуфейка священника. Пестрая тюбетейка муллы. Клин золотой бороды. Черно-синий косматый клок. Грызлись зубами, плевались кровавой слюной. Упали сцепившись. Покатились с горы, выкликая ругательства, ударились о древесный ствол. Возились в снегу, подбираясь к горлу друг друга. Вспомнили, что за поясом у них пистолеты. Стоя на коленях, уткнулись стволами в грудь, разом спустили курки. Отброшенные выстрелами, лежали, зажимая ладонями смертельные раны, глядя в небо сквозь древесные ветки. Их души, вырываясь из красного пара, протискиваясь сквозь древесные сучья, ликовали, сбросив тяжкую зловонную плоть, удаляясь от хрипа и клекота. Узрели друг друга, кинулись в объятия, прижались уста в уста. Уносились в туман, в белое пятно света, оставляя под собой хрипящую гору.
Ротный дрался с командиром чеченцев, выкрикивая страшную брань сквозь пшеничные усы. Бил свалявшимся чубом в бритую синюю голову. Его правая рука была отстрелена крупнокалиберной пулей, из прорванного рукава хлестала парная кровь. Левой рукой он стиснул горло чеченца, не пускал от себя, видя, как вверх по склону поднимаются дымные взрывы. Батарея гаубиц открыла огонь по горе, и ротный, слабея, торопил приближение взрывов. «Так, мужики!.. Спасибо!..» Снаряд накрыл их обоих, превращая в ошметки и костный пепел, развешивая по деревьям их жилы и клочья одежд. Их души вырвались из огня, уходя от взрывной волны и брызнувшей стали. Витали над горой, где взрывы валили деревья, месили окопы, выжигали на склоне воронки. Увидали друг друга, счастливо слетелись. Словно белые голуби, прянули ввысь, обнимая один другого белыми крыльями. Счастливые, невесомые, неслись в синеве.
В небесном саду, в тени деревьев, был накрыт длинный стол. В вазах синел виноград. На блюдах лежали яблоки, груши, гранаты. Краснели арбузы. Из дынь изливался душистый сок. Золотая оса ползла по блюду, опьянев от сладости. За столом сидели чеченцы и русские, павшие в жестоком бою. Обнимали друг друга, угощали плодами, внимали словам и песням. Командир чеченцев клал перед ротным темную виноградную гроздь, и тот подносил виноградину к пшеничным усам. Прапорщик десантным ножом рассекал арбуз, бережно клал ломоть перед бородатым кавказцем. Священник читал мулле «Послание апостолов» и спрашивал, как будет по-арабски «любовь».
Земли не было видно. Кругом была синева, и в ней, едва различимо, словно клин журавлей, нарисованные кистью художника, летели ангелы.
Москва, Торговцево, февраль — июнь 2000 г.
Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?
Иеремия, VI, 21Иногда, в редкие минуты одиночества и покоя, он пытался представить, откуда, из какой глубины возникла его душа. Из какого невнятного мерцающего тумана она вплыла в жизнь. По крохотным пылинкам памяти, по мимолетным корпускулам света он восстанавливал момент своего появления. Цеплялся за младенческие хрупкие образы, вслушивался в слабые отголоски, стремился различить, уловить ту черту, за которой из туманного, неразличимого целого возникло отдельное, ощутимое, чувствующее — он сам. Перебирая воспоминания, удаляясь в прошлое, в юность, в детство, он словно уносился вспять на тончайшем световом луче, врывался в дымное непроглядное облако, из которого вышел. Сверкающая бесконечность чудилась ему за этой мглой и туманом. Туда, в это необъятное сверкание, пройдя сквозь сумрак, вернется его душа.